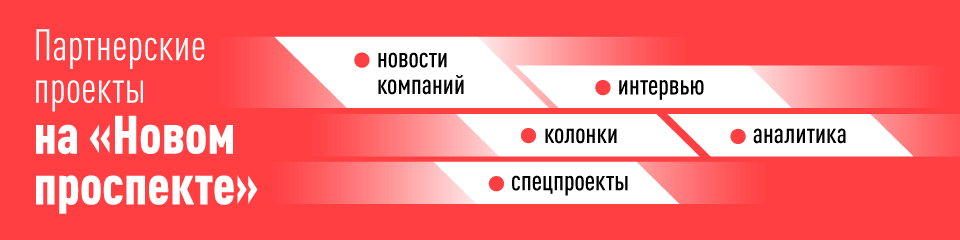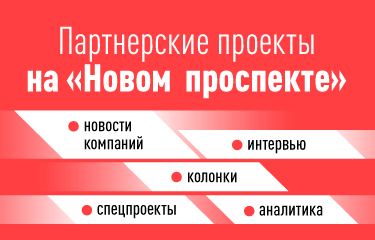Воля к разрушению

Через 30 лет после референдума о сохранении СССР разговор о разрушении советского строя стараются свести к морали, а не экономике или политике. Мораль подсвечивается в наиболее выгодном для обывателя свете — он ни в чём не виноват.
Тридцатилетний юбилей референдума 1991 года то ли о сохранении СССР, то ли о его роспуске (формулировки у него были такие, что их до сих пор можно толковать в любую сторону) в России стало принято вспоминать с обидой и какой-то даже скорбью. Конечно, по случаю круглой даты
обратились к Михаилу Горбачеву, первому и последнему президенту СССР, и из его комментария на первый план жирным шрифтом вытаскивают фразу: «Разрушение Советского Союза — это было не что иное, как нарушение воли всего народа». Признание Горбачева становится главным, оно принимает вид извинения: власти, дескать, взяли и обманули народ, как всегда.
Считайте, что это задним числом выписанная справка народу в том, что он ни в чем не виноват. Это не народ выходил на демонстрации, кидался за прибылью, что противоречит фундаментальным основам государства, построенного на отрицании частной прибыли, сносил памятники и устраивал резню на национальных окраинах. Народ хотел, чтобы всё оставалось по-прежнему. Это глупые жадные старики, первый из которых всё еще жив, его обманули.
Горбачев говорит немного не об этом. Он продолжает отстаивать свою идею обновленного Союза, в котором республики получали гораздо больше самостоятельности, суверенитета, и считает, что именно такова была воля народа. Но к моменту референдума этот порядок фактически уже сложился: уже в республиках были избраны свои президенты, уже не существовало союзного бюджета, была приостановлена деятельность КПСС, а экономически СССР был банкротом, увязшим в долгах не только внешних, но и перед собственными гражданами, которых уже был не в состоянии прокормить и защитить и которым стал попросту неинтересен.
Через 30 лет оптика сместилась. Сейчас исторический нарратив, продвигаемый властями, означает в первую очередь не экономическую или политическую, а моральную оценку как самого СССР, так и «предательства» его руководства именно в момент распада государства. Мораль в данном случае подсвечивается в наиболее выгодном для обывателя свете: он ни в чём не виноват.
Патриотический принцип так легок для восприятия именно оттого, что совершенно ничего не требует от рядового гражданина — гражданин хорош уже тем, что существует, все преимущества даны ему от рождения. И если он с этим согласен, то никаких усилий по улучшению самого себя затрачивать не должен, напротив, это ему все вокруг должны. Если же с ним происходит что-то неприятное, это результат обмана и диверсий.
Есть тут, конечно, и хитрость, которую обыватель замечает не сразу и не всегда, но если замечает, то внезапно. Привилегии в виде принадлежности к чему-то великому, полученные по праву рождения, являются исчерпывающими. Ими следует удовлетвориться и не претендовать на что-то сверх того в разговоре с государством.
Распад СССР представляется как нечто, случившееся незаметно для народа, как если бы люди легли однажды вечером спать, а наутро обнаружили, что всё вокруг кто-то украл. Этому противопоставляется идеальное с точки зрения патриотизма присоединение Крыма: граждане точно так же проснулись и обнаружили, что государство приросло; всё уже случилось, а делать ничего не надо, надо только праздновать.
Экономику СССР восстановить уже невозможно, да и дураков таких нет. Политическое устройство власти реконструировать могли бы, но не хотят — определенные выводы они всё же сделали, и плодов западной цивилизации тоже уже вкусили, поэтому терпят и многопартийность, и свободу эмиграции. И даже еще выдерживают свободу слова, хотя и явно из последних сил, желая ее как-то устранить, но смутно догадываясь, что что-то важное на этом гвоздике держится.
А вот с моралью, считают власти, работать как раз можно и нужно. Отсюда все карго-попытки восстановления как бы советских общественных норм: непрекращающаяся борьба с иноагентами, запрет на нелицензированную властями просветительскую деятельность, культ войны, подавление оппозиции. Но получается всё равно не реконструкция, а суррогат, косплей, фальшивость которого очевидна: у современного государства нет общественного аппарата, который контролировал бы соблюдение морали, и ему неоткуда взяться. Руководители страны стараются изобразить советские реалии так, как сами их запомнили и представляют, как будто в надежде на то, что если заново смоделировать холодную войну и борьбу с инакомыслящими, то и аппарат в какой-то момент самозародится и начнет контролировать общество.
Подразумевается, что именно это и есть восстановление нарушенной «воли народа». По какой-то извращенной логике считается, что ностальгирующие по СССР люди скучают именно вот по этому: по репрессиям, несвободе, милитаризму, кремлевским старцам и прочим авторитарным атрибутам.
С «волей народа», правда, есть проблема: она всегда придумывается задним числом; сам народ нередко недоумевает, увидев, чего же именно он, оказывается, хотел. Прошлым летом мы, например, всей страной принимали участие в очередном волеизъявлении, хотя эту волю составили и предложили специально обученные люди. Но большинство приняло ее благосклонно, полагая, что специалисты по патриотизму свое дело знают и надо только снова лечь спать, чтобы проснуться и увидеть, что опять пора праздновать. Если нет — через какое-то время кому-то придется снова признавать, что воля народа была искажена.
Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ