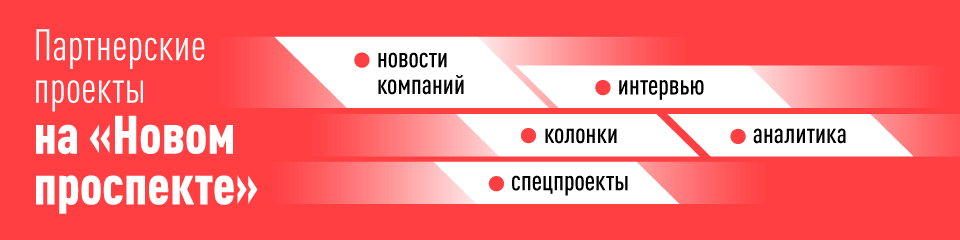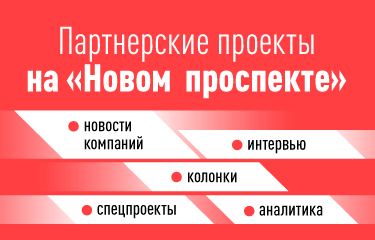«Я реагирую только на звуки». Всеволод Гаккель про свою музыку и музыку, которая доводит до слёз

Человек, который всегда оставался в тени, но благодаря которому петербургская музыка получила фантастический импульс в 90-е. Соратник Гребенщикова в молодости, его критик в зрелости и друг сегодня. Всеволод Гаккель в большом интервью «Новому проспекту» рассказал о том, почему он вдруг стал петь свои песни. Как меняется клубная музыка, как меняется молодёжь и как настроить себя таким образом, чтобы никогда не пребывать в «хреновом» настроении, у виолончелиста узнал Николай Нелюбин.
Всеволод, когда вышел сингл «Эйяфьядлайёкюдль», я очень порадовался, что вы вдруг запели. «Гаккель записал с кучей музыкантов крутейший реггей», — сказал я супруге тогда. Ничто так не вдохновляет, как природа, которая может перекрыть кислород целой цивилизации?
— Это был 2010 год. Исландский вулкан очень вдохновил. Если я раньше пытался сочинять песни, то все они остались для внутреннего пользования. Никогда не решался вынести их на суд зрителей, это было дело случая, настроения. Когда мои друзья стали сильными songwriter’ами и авторитетами, они настолько сильно подняли планку, что я со своими потугами был просто лишним. В то время у меня не было амбиций. Нет их и сейчас. Но когда десять лет назад вдруг восклубился исландский вулкан с непроизносимым названием, я был заворожен самим словом. Когда и я, и многие другие люди пытались произносить это загадочное название, в том числе по телевизору, который я не смотрю категорически, это всегда вызывало улыбку. Люди не могут произнести это слово! Мне показалось, что это само по себе заслуживает внимания.
И не только вам, в клипе Сергея Дебежева на эту песню оказалось ещё человек сорок.
— На самом деле там двести человек было. И пока я писал песню, я этим словом оперировал в течение какого-то времени, пока не наткнулся в Википедии на заметку о том, что в Перу в 1600 году восклубился вулкан под названием Уайнапутина. Название этого вулкана содержит имя другого небожителя.
Который тоже иногда уже дымит…
— Тоже пыхтит уже, да. Мне показалось это смешным. И я написал песню — упрёк одному из вулканов, что он не довёл такую красивую историю до конца, а мог бы взять пример с человека, который по сей день гарцует…
…Мы тебе поверили, отдали свои голоса,
Но ты приткнулся.
Мы поставили на тебя, мы играли ва-банк,
Но ты лопухнулся.
Ты вселил в нас надежду,
Но её не оправдал.
Но ничего, соберись,
Свяжи свою волю в пучок,
Пристегни ремни, возьми себя в руки,
Наканифоль свой смычок,
Вспомни, как вдохновенно
Курила твоя сестра
Уай-уай-уай-уай-уай, Уайнапутина…
Так это вы во всём виноваты! И ведь непонятно, как долго ещё будет канифолить смычок…
— Ну, это я уже не знаю (улыбается).
Признаюсь, название вулкана я выучил только благодаря вашей песне. И иногда удаётся блеснуть беззапиночным произношением!
— Многие делают так с тех пор. У меня есть один знакомый финн, который принимал участие в записи и съёмках этой песни. Он бросил курить потом. Говорит, что ничего не смог с этим поделать после этой песни. Припев его навёл на мысль. С тех пор 10 лет не курит.
С тех пор вышло ещё несколько клипов вашего проекта Seva and the Molkenteens…
— Это не клипы. В лучшем случае там небольшая анимация с вьющейся змейкой… Или с «пионером» в колышущемся галстуке. Есть альтернатива клипам — official lyrics video. Пусть в нашем случае это будет official cartoons video — иллюстрации.
Глядя на «пионера», который известен своей любовью к «солсберецкому шпилю», я понимаю, что актуальность в ваши песни проникает, несмотря на отсутствие телека перед глазами. Многие ваши коллеги от актуальности предпочитают держаться подальше…
— Я просто не живу в затворничестве. Так или иначе, какие-то новости я пробегаю в интернете. Какие-то вещи меня смущают, какие-то веселят. История с двумя диверсантами мне показалась нелепой до абсурда. И смешной. Хотя там в результате их туризма погибла женщина… Сама фамилия одного из них вызвала ассоциации с Че Геварой. И вот мы сделали с приятелем Сашей Потолицыным такой коллаж…
Заставка к «Ералашу» для взрослых.
— Ну да…
Пока есть отдельные треки. Но где же альбом?
— Песен накопилось много, но альбома не будет. Запись в студии, даже если это домашняя студия Лёши Вишни, для меня сопряжена с колоссальным стрессом. Кажется, что работа в студии — это покой, но я неврастеник. Я очень нервничаю в процессе записи. Мне эти дела даются с трудом. Я никогда не бываю доволен результатом…
Но это у вас вечное. Ещё со времён раннего «Аквариума», где виолончель ещё надо постараться расслышать.
— Неважно, что там слышно. Быльём поросло. И дело не в том, что слышат другие, в отличие от того, что слышу я. У меня просто запись сопряжена со стрессом. Вот последние песни про Че Пигу и про «Извилины». Но будем точными: песня про Чепигу называется Fool on the Solsbury Hill. Это имеет предысторию. Я коротко знаком с сэром Полом Маккартни и Питером Гэбриелом. У Питера была песня Solsbury Hill.
А у Пола была песня ещё во времена The Beatles — Fool on the Hill.
Я попытался их соединить воедино. Я хотел сначала их обоих склонить к тому, чтобы написать песню с таким названием. Безотносительно к этим двум русским дуракам. Но знакомство как с Питером, так и с сэром Полом настолько шапочное, что восстановить цепочку, по которой можно было бы достучаться до каждого из них, а потом ещё и соединить их, — задача слишком зыбкая, нереальная… И эту песню пришлось написать мне самому. Припев я опять-таки позаимствовал у Дэвида Боуи из песни Changes, где он застревает на слоге «че-че-че».
Ну а насколько такие вещи срабатывают, не мне судить. До несостоявшихся соавторов запись не дошла. Боуи уже нет в живых, а двум другим многая лета. Я же не занимаюсь никаким продвижением того, что я делаю. Более того, я не собирался ничего выкладывать. Это Вишня меня склонял. По мере записи.
Завтра к вам придёт хороший человек и скажет: «А давай запилим винилину». Запилите?
— Нет. И дело не в человеке, который такое может сказать. Я мог бы этим заняться. Есть куча классных звукорежиссёров-друзей помимо Вишни, и можно было бы записать в студии «Добролёт», найти какие-то деньги. Но я не буду замахиваться.
До 2010 года Сева Гаккель вообще не замахивался на сольное творчество. Однако же мы его обсуждаем прямо сейчас. Вот оно. Давайте просто подождём.
— (Улыбается.) Я не то чтобы зарекаюсь или не зарекаюсь, я не знал, что я в какой-то момент начну писать. Спустя 10 лет песен накопилось на два альбома. Но я не знаю, почему я это всё делаю. Впрочем, тут есть история из прошлого. Я был назван в честь моего прадеда, маминого отца Всеволода Рудольфовича Молькентина. Он был капитаном Павловского полка, который в 1919 году с армией Деникина по классическому сценарию отступил через Севастополь и Константинополь и оказался в Париже. После смерти Сталина от него пришло несколько писем. А в 1958 году он умер и был похоронен на кладбище Пантен. И я с детства думал, что однажды к этому вернусь.
Артемий Троицкий, увидев у меня фото моих детей с вами, когда мы случайно встретились в скверике у Смольного, сказал: «Севка — лучший петербуржец». Для вас кто лучший петербуржец?
— (Смеётся.) Не смогу своих друзей расставить по местам, выстроить их по табели о рангах, рейтингу. Очень многих близких друзей уже нет в живых. Друг есть друг.
Но Троицкий же лучший москвич?
— Очень может быть. Но даже на него я бы не стал вешать такой ярлык. И он уже и не москвич («Новый проспект» во время первого карантина общался с жителем Таллинна Артемием Троицким. — Прим. «НП»).
Тот же Артемий говорит, что БГ всё время поёт пять песен, но с разными словами. Понимаете, о чём он?
— Не хочу пререкаться с непререкаемыми авторитетами. Я так не считаю. Для меня дороги все песни этого человека в разные периоды его жизни, и то, что он делает сейчас, и тот период времени, в котором мне довелось принять участие. Они для меня равноценны вне зависимости от моего участия.
Почему спрашиваю. Помню, что лет пятнадцать назад я вам звонил по поводу «Аквариума» — какой-то комментарий был нужен для радио. А вы очень поморщились. А потом всё стало нормально в этом смысле.
— Наверняка комментарий был про очередной юбилей группы. Конечно, у меня как у бывшего участника группы есть какие-то несогласия с тем, как вся эта история повернулась. И вряд ли сегодня можно кого-то в чём-то обвинить.
Вы про рубеж восьмидесятых-девяностых, когда Гребенщиков улетел в сольное плавание, оставив соратников за бортом?
— Скорее про рубеж девяностых-двухтысячных. У меня своя концепция того, что является группой, какой она может быть, какой не должна. Мне понятно, когда группа имеет продолжительность жизни и ограниченное число участников, которых связывает нечто большее, чем просто игра на инструментах. И этот путь, который проходят не всегда первоклассные музыканты, но проходят вместе, очень важен. А когда потом это сбрасывается со счёта, меняются составы, то те музыканты, которые остаются в живых, не могут согласиться с тем, что ситуация развивается таким образом. Когда все ещё были живы, я выражал такую коллективную точку зрения, которая не была видна моему близкому другу. Но когда дело доходило до юбилеев группы: 30 лет, 40 лет — никого не приглашали на эти праздники из тех музыкантов, которые могли бы получить формальное приглашение. День рождения группы ведь касался каждого из этих людей. А сейчас мне уже всё равно. Вообще всё равно. И я рад, что мы охотно общаемся с Бобо́м (ударение на последний слог).
Правильно говорить «с Бобо́м»? Из книжек про русский рок мне всегда казалось, что короткая версия его имени скорее про Дилана, нежели про овощную культуру.
— А я не знаю, почему так. Каждый вправе думать как угодно, но Борис всегда был Бобо́м. У нас тогда вообще все русские имена произносились на заморский лад. Анатолий Гуницкий у нас всегда был Джордж (поэт, автор текстов нескольких альбомов Гребенщикова. — Прим. «НП»). И когда мы говорили наши имена в родительном падеже, то ударение делали всегда на последний слог: «у Джорджа́», «пойти к Джорджу́». Джорджа́-Боба́!
Восток!
— В нашем кругу это было так, да.
Вас радует реакция аудитории на концертах? Вы же стали выступать сольно.
— Преимущественно это маленькие домашние концерты либо маленькие клубы, желательно маленькие театральные залы. Если в клубы люди иногда ходят просто потому, что они туда ходят, то для залов нужен пиар. Пиар мне категорически претит. Я не люблю всё, что сопряжено каким-то образом с тем, что нужно что бы то ни было рекламировать. А на мои концерты приходят мои друзья, и мы радуемся друг другу. Моим постоянным компаньоном является замечательный гитарист Антон Спартаков.
Многие посетители клуба «А2» видят вас иногда около техников, но мало кто знает, что вы там работаете.
— Да. Пока не уволили.
Чем современный музыкальный клуб в Петербурге отличается от того, что у нас было лет тридцать назад?
— Всем. 30 лет назад клуб был один-единственный. Сейчас он празднует славный юбилей — 30 лет со дня его смерти. И в этом же году 40 лет со дня его рождения. Я про Ленинградский рок-клуб. Мне часто в последнее время задают вопросы про этот клуб. Я формально в нём состоял. У меня даже есть членский билет — №18. Рок-клуб был прекрасен тем, что система в то время давала возможность юным и не очень юным музыкантам попробовать себя реализовать. Что удалось не всем. Этот клуб был больше надзорным органом, чем клубом в том понимании, в котором мы видим их сегодня. Клуб как концертная площадка. Концерты были и тогда, но не для всех членов клуба. Я ходил на концерты одних и тех же людей, который я знал и безо всякого клуба. Раз в год были фестивали на 500 человек. Как нам тогда казалось, это был фантастический масштаб!
Я про настроение. Не хочу никого обижать, но мне кажется, что сегодня музыкальные клубы превратились в какое-то мёртвое пространство…
— Да нет, правда я никуда кроме клуба, в котором работаю, и не хожу… При этом меня постоянно зовут друзья на юбилеи и дни рождения. Не могу представить себя ходящим в клубы. Из любопытства? Так я уже не любопытен, меня уже больше ничего не интересует. Просто так пойти в бар? Я не пью. Я предпочитаю встречать друзей дома за чашкой чая. Ещё я встречаюсь с друзьями в вегетарианском кафе «Ботаника». Нигде более. Просто появление семидесятилетнего старца в любом пространстве настораживает. Клубы — сугубо молодёжные пространства. Даже работая в «А2», я вижу, что я там выгляжу белой вороной в прямом и в переносном смысле. Я белый как лунь, моя борода светится в темноте, я неуместен. Пожилые люди неудобны. Они должны выйти вон, потому что без них лучше. Как они выходят за дверь, сразу становится всё понятно и нормально. Это так.
К слову, про пожилых, которым периодически пора уже выйти вон. Вы помните свой 1991 год? Представляете, уже почти треть века мы формально в другой стране!
— Я 1991 год начал с чистого листа. Совершенно случайно. Я не предполагал заняться тем, чем в итоге я стал заниматься. В лучшем случае я думал о современной музыке, какую я видел в Нью-Йорке. Там был клуб, как хотелось бы мне — клуб Knitting Factory. Сугубо авангардный и экспериментальный. По возвращению я стал носиться с идеей создания клуба новой формации и, помимо всего прочего, мне хотелось, чтобы клуб стал антитезой всему тому, на что повесили ярлык «русского рока». Когда появилась «русская идея», что мы, почему-то, как и всё остальное, что происходит в России, непременно должны противопоставить тому, что происходит на «загнивающем Западе». Неистребимая какая-то история. То, что на этой унавоженной почве люди запели рок по-русски, ни в коем случае не сделало этот «русский рок» лучше того прототипа, которым явился весь западный рок. Люди должны петь на своём языке, но не стоит никого склонять к тому, что это непременно лучше того, что делают англичане, американцы или кто бы то ни было. И я решил, что если я всё-таки запустил клуб, то акцент надо делать на том, чтобы это послужило альтернативой тому самому «русскому року».
Ещё и в буквальном смысле случилась альтернатива. Многие группы одноимённого жанра состоялись в TaMtAm’е.
— При том что они поют по-русски. Но я не знаю даже, что такое «жанр альтернатива». Это такой тяжеляк. Это было, да. Не в этом дело. Дело в сути того, что если взять первую волну панк-рока на Западе, 1976–1977 годы, то там была альтернатива всему тому мейнстриму, который сформировался, в частности, в Англии, где были Genesis, Pink Floyd и прочее. Поколение 70-х не чувствовало себя комфортно в этой системе координат. Нужно было что-то своё. И вот к 1991 году, к тому моменту, когда рок-клуб, выполнив свою историческую функцию, застрял, я увидел этот просвет, зазор. Рок-клуб мог бы легко продолжить собственную работу. Он имел колоссальную базу. Можно было бы делать радиостанцию, выпускать пластинки, запускать музыкальные издательства — всё что угодно. Но почему-то свою деятельность он приостановил. А вот ростки нового появились уже. И я сделал ставку на музыку поколения, которому было по 20 лет. Вот и всё.
Часто ребята того времени напоминают о себе, звонят?
— Нет, никогда. У меня есть несколько друзей, которые появились в то время, людей, с которыми я по жизни стал чуть ближе. И какой-то период после закрытия клуба TaМtAm мы активно общались. По прошествии ещё 25 лет это общение в силу того, что я был в среднем на 15–20 лет старше большинства тех, кто прошёл через TaMtAm, постепенно сошло на нет.

Команда клуба TaMtAm в 1993 году. Фото: Андрей (Вилли) Усов
При этом сложно отрицать глубину шрама этого красивого.
— Да. Я могу сказать, что не сожалею, что имел такой опыт. Я это сделал. Я имею результат. Я не провозглашал никаких деклараций о независимости, никаких манифестов. Я человек, исповедующий принципы DIY (do it yourself). То есть если ты видишь, что что-то надо делать, ты просто берёшь и делаешь сам, а потом смотришь на результат.
В этом смысле стало больше свободы действия у сограждан?
— К сожалению, помимо того, что возможностей стало больше, у нас слишком раздолбанная колея. Те люди, которые хотели бы двинуться в сторону, всё равно оказываются в нее снесёнными, потому что они боятся сделать шаг в сторону, попытаться сделать что-то категорически своё.
Это вас удивляет?
— Нет. Время перенасыщено информацией. Помимо того, что есть информационное перенасыщение, время очень прагматичное. Очень. У поколения TaMtAm’a не было просвета. Они жили сегодняшним днём. Будущего у них не было и не могло быть. Если они брали гитару, они знали, что они с этой гитарой умрут. Поиграют два, три, пять лет — и всё. И в этом есть их законченность и самодостаточность.
То поколение, которое берётся играть сейчас, опирается на очень добротную школу. Роскошные инструменты, прекрасная аппаратура. Чуть заработал себе на гитару — строчи: в YouTube десятки школ игры на чём угодно. Научился — ты уже можешь рассчитывать получить работу. А главное, ты хочешь получить работу и зарабатывать большие деньги. Не то чтобы это конъюнктура... Нет анализа того, что ты делаешь.
Вот в клубе «А2» я наблюдаю весь мейнстрим, который есть в России. Много добротных музыкантов, которые играют на уровне высшего пилотажа. Но я наблюдаю за ними. Они упиваются своим мастерством, но им всё равно что играть. Они упиваются собой. Радуются, что поставили на ту лошадку. Все эти столичные кампании по продвижению музыкантов. Целая плеяда музыкантов. Новая школа. Я не вижу альтернативы этому. Этого очень много. Сначала у них «Аврора», «Космонавт», «А2», и через несколько лет надо в дамки любой ценой — собрать Ледовый дворец. Весь упор на шоу. Произвести эффект на неокрепшие души тинейджеров, девочек. Это общая картина, которую я вижу.
Дома же я же слушаю то, что у меня накопилось. Сотни пластинок и компакт-дисков. Но предпочитаю плыть в тишине. Работая в клубе, я соприкасаюсь с чем-то, что не могу воспринимать как пищу, которой я мог бы питаться. Это не моё. Я не имею права на оценку: это музыка другого поколения, которое я считаю потерянным. На каждый концерт требуется 10–15 часов подготовки. Монтаж, перемонтаж — бесконечно. Собственно, на концерте люди видят лишь результат того, что готовилось 10 часов. Мне же интересен процесс подготовки до саундчека, и за первые 15 минут такового я получаю полное представление о том, что я пропущу, не выходя в зал. Какое-то время назад мне удалось захватить пространство, где бы я мог все концерты пережидать. Но, к сожалению, из-за ковидных ограничений и изнурительной паузы я его лишился.
Вы понимаете, почему TaMtAm сегодня снова воспринимается как культ? Ничего более интересного с тех пор не появилось?
— Все пограничные времена самые важные: когда рушится одна система, строится другая. Так было в Великобритании и в Америке в 60-е годы, на которые пришелся весь бум рок-н-ролла: «Сержант Пеппер», фестиваль в Монтерее и прочее. Это водораздел смены эпохи. Всё менялось тогда: мода, раскрепощение, секс-революция. Мир переворачивался на наших глазах. И перевернулся-таки. И в России этот переворот тоже произошел. Рухнула Берлинская стена, и, как нам казалось тогда, вся коммунистическая идеология была похоронена. Что оказалось заблуждением. Преждевременно (смеётся). Тем не менее свидетели того обновления были. И за эти 25 лет, получается, после разрушения Советского Союза ничего схожего по масштабу происходящего не было. Не знаю, есть ли тут увязка с рождением клуба TaMtAm. После был только Крым, который провел водораздел между теми людьми, которым, казалось, нечего было делить.
Музыки новой от этого не появилось. Горе и смерть. Страшноватая цена за радость.
— Музыка сейчас ничего не может решить. Во времена Боба Дилана эти песни не были плакатными, они содержали в себе сам момент времени. Время звучало таким образом. Музыка была априори революционной. А сейчас музыка свалилась в кучу, молодое поколение перестало вычленять в этой музыке зерна. Всё потребляется гигабайтами.
Олег Гитаркин ответил про ТаMtAм: «Люди всегда культивируют то, чего или кого больше нет... Так устроен человек…»
— Согласен. Однако и этого нет. Рок-клуб существовал 10 лет, уже прошло 40 лет. Со времени TaМtAm’a прошло 30 лет, и в эти 30 лет нет этой вехи следующего поколения — у тех людей, которым сейчас по 40 лет, если перевести слова Гитаркина, что его поколение уже 50-летние. Их юность — девяностые, они этим дорожат. А тем, кому 40, в их 20–25 лет не было революционного момента.
У кого-то всё же была революция, благодаря ГЭЗ-21. Нулевые там.
— Все экспериментальные клубы — они прекрасные. Но не то чтобы маргинальные, а для посвященных. И этого должно быть много. Например, в Нью-Йорке я всё время попадал в какое-то пространство, в котором создавалось ощущение, что весь Нью-Йорк бурлит и состоит из бесконечных проектов, которые произрастают как грибы. Музыкальная сфера не имеет там возрастных ограничений, идет постоянное перемешивание. У нас же как был ГЭЗ, так только он и остался. Есть только местечковые очаги. Увы, в целом это не имеет значения в масштабе города.
Мой друг художник рассказывал, как на излёте TaМtAm’a пришёл туда встретиться с другом, обменяться музыкой, а его принял ОМОН. Потом выкинул из автомобиля на ходу. Была у них такая забава тогда. Спутали с кем-то. Менты с тех пор стали гуманнее?
— Ничего не могу сказать. Я не хожу на протестные акции, я не вижу этого. То, что я читаю, чудовищно. Несчастные дети, которые без мозгов идут служить в Росгвардию. Такие же подростки. Либо они после армии, где им промыли мозги, либо это способ вырваться из деревни. Это пугает. Невозможно с этим мириться. Но я не знаю никакого выхода…
В период клуба TaMtAm помимо насилия со стороны ментов, которые представляли внешнюю угрозу, я был свидетелем бесконечного внутреннего мордобоя. Понятно, что там были комитеты по обороту наркотиков. Когда менты приезжали и зверствовали, они выполняли ужасную функцию, и мы всем сообществом, естественно, этому противостояли и сопротивлялись. Но ничего нельзя было сделать, когда насилие было внутри. Саморазрушение является неотъемлемой частью панк-рока, к сожалению, при всей моей любви к этому драйву. Слушая группу The Clash, я ощущал мурашки по коже. Слушая группы в TaMtAm, я тоже ощущал такой же драйв до тех пор, пока это не кончалось пробитыми головами и наркотиками, которые продавались во всех подъездах вокруг клуба, от чего страдал весь Васильевский… Даже сами по себе девяностые годы были не настолько ужасны, насколько ужасно было там. И всё это замутил я (улыбается). Получается, что я должен сидеть и молчать в тряпочку вообще. Помимо того, что клуб TaMtAm пробил брешь и стал чем-то, он выпустил такого джина из бутылки, которого уже туда не спрячешь.
Да его уже особо никто и не видел с тех пор. Он растворился в нашей современности.
— Ну, это уже другой разговор (улыбается).
Скажите, а вы помните псковскую группу «Забавы простолюдина»? В этом году должна, наконец, выйти их виниловая пластинка. Первый релиз за всю их историю. Вы ее помните?
— Конечно, очень хорошо их запомнил. Рома, очень хорошо его запомнил. Старые музыканты этой группы меня узнают периодически. Она произвела на меня самое благоприятное впечатление. Я очень рад, что среди сотен групп, которые там играли — и местных, и из других городов, — всё-таки я наталкивался на нечто подобное «Забавам простолюдина». К сожалению, такого было не много, но всегда это была огромная радость, когда соприкасался с этим. Убедительность. Когда ты реагируешь не просто на музыку и текст, а на то, как человек это делает, на интонацию голоса. На то, как он действует на тебя на физическом уровне. В этом плане то, что я слышу на всех последних альбомах Боба́, — на меня его голос действует так же, как он действовал на меня 50 лет назад. Я просто робею, когда слушаю его современные песни. Так же, как если бы я впервые послушал
«Забавы простолюдина».
Такую музыку на виниле какого цвета надо издавать? Красно-зелёный?
— Не могу ничего сказать, у меня не работает этот механизм. У меня вообще ничего не работает (смеётся). Я реагирую только на звуки, нет сочетания с цветом. И вообще пластинки должны быть чёрными. Могут быть какими угодно, но должны быть чёрными (улыбается). Как лондонское такси. Когда я его застал 30 лет назад, все машины были чёрными, никакого другого цвета быть не могло. Потом они стали в виде газеты какой-то, а потом и вовсе они отказались от этого стиля, автомобиль теперь другой марки. Исчезло нечто важное. Когда ты встречаешь этот автомобиль, кэб чёрного цвета классических очертаний, то раз — и что-то откликается внутри. Когда ты достаёшь из конверта оранжевую пластинку, красную, то ничего внутри не возникает. А вот когда ты достаёшь чёрную пластинку из конверта, то происходит священнодействие.

Фото: Lada Raskol'nikova, Facebook (принадлежит Meta Platforms Inc., — компания признана экстремистской организацией в РФ, деятельность запрещена)
Концерт «Кино» в «Севкабеле» 31 января, где вы были, издадут на прозрачном виниле. Логично?
— Концерт мне понравился. Я застал все концерты группы «Кино» в ту эпоху. До того, как они стали чесать по России. Был на первом концерте, на всех последующих концертах, которые были тогда в Ленинграде. Мы дружили. Они все, как и я, участвовали в «Поп-механике». Таким образом, мы играли в одной группе. Поэтому мое восприятие априори другое. Не такое, как у тех, кто просто не застал группу либо слышали только в записях. Современный их концерт — фантастический по техническим параметрам и по мастерству музыкантов группы. Понятно, что 30 лет назад они не могли так звучать.

Фото: Марина Фёдорова
И в какой-то момент на концерте у меня даже что-то защемило, такое чувство, когда вот-вот могут брызнуть слезы. Делаешь вид, что не допустишь этого. Потом становится всё привычно, начинаешь обращать внимание на детали. Конечно, понравилось. Но оценивать это сложно. Это мои друзья, которые прекрасно делают то, что вознамерились сделать. Ну и слава богу. Может ли этот концерт стать прозрачной виниловой пластинкой? Не знаю (смеётся). Мне Георгий Дмитриевич Каспарян подарил пластику «Симфонического кино», двойной виниловый альбом. Слушаю ее с удовольствием. Слушаем с дочерью, вместе ходим на их концерты. Ей очень нравится.
Правда, что это вы Леху Никонова научили спортивной ходьбе с палками?
— Это он так говорит? Тогда правда (смеётся). Мы с ним как-то встретились на Кирочной, он у меня поинтересовался: что это такое? Я ему всё рассказал, и буквально недели через две мы, не сговариваясь, встретились в Таврическом саду. Смешная парочка была. Мы иногда встречаемся и меняем свои траектории, чтобы проковылять вдвоем, что очень приятно.
Театрал Константин Богомолов всех взбаламутил рассуждениями о загнивающей Европе. Вас это задевает?
— Я наткнулся на его манифест, но не осилил. Потом, конечно, прочту. Но мыслить такими категориями не могу. Моя картина мира гораздо проще. Я просто делаю маленькое незаметное дело и стараюсь не судить о том, как это делают другие люди, озабоченные переустройством мира методами, которые мне не всегда понятны.
Есть и другой театрал. Гена Смирнов считает, что поддерживать гонимых — настоящая русская традиция. Вы верите в созидательные силы солидарности?
— Я не знаю, пошел ли бы я на улицу, будь мне сейчас 18–20 лет. Я не имел такого опыта, система была такая же, не лучше, и не хуже. Я был свидетелем того, когда в 1978 году объявили о том, что на Дворцовой площади будут съемки концерта Сантаны, The Beach Boys и Joan Baez. Потом это всё отменилось, и я видел, как тысяча человек пришла на площадь, и эту толпу разгоняли поливалки. Я не бросался под колеса поливалок, я не был частью этой толпы. С тех пор я не имел такого опыта. Кинчева видели на баррикадах 1991 года около Мариинского дворца. Я человек не такого склада.
Новые поколения быстро привыкнут к закрытым границам?
— Я надеюсь, что их все-таки не закроют.
Откуда такой оптимизм? Почти год закрыто.
— Не знаю, пока я даже на эту тему не думал. Что смогут закрыть настолько, что не смогут снова открыть? Посмотрим, что будет через полгода. Не смог ответить на ваш вопрос. Но задумался.
Вы мне сказали, что у вас нет души. Куда вы ее дели?
— Это слишком тонкая материя. Лет 30–35 назад меня считали «одухотворенным», всё время вешали ярлыки. Когда речь заходила об «Аквариуме» того созыва, меня всегда называли «душой группы». Во многом это было обусловлено моей внешностью на тот момент. Многие считают ее классической библейской. Я не мог с этим ничего поделать, но меня наделяли теми качествами, которыми я не обладал. Дело идет к закату. Мне без малого 70 лет. И когда мне опять говорят про душу и духовность, я не хочу с этим соглашаться. Поэтому я и говорю, что души у меня нет. Это такой приём. На самом деле, наверное, лукавлю.

Усадьба Jazz, Архангельское, 2005. Фото: Евгений Фёдоров
Что вы делаете, когда вам плохо, настроение на нуле?
— У меня не бывает такого настроения, по счастью. В сегодняшнем моем возрасте ты уже находишься в некоем блаженном состоянии не то чтобы дремы… полузабытья, когда мало что может вывести тебя из состояния равновесия. Во-первых, есть велосипед! Садишься, едешь покататься. Часто с дочерью, иногда один. До глубокой осени. Раньше это было круглогодично. Сейчас уже силенки покидают. Ты едешь, и прочищается то, что, может, у других людей накапливается. Плохого настроения практически не бывает. Практически ежедневно хожу на палках, чтобы быть в тонусе. Очень часто мы с дочерью, уже со взрослой девушкой, которой 22 года, собираем пазлы. Один раз замахнулись на пазл из трех тысяч элементов. Сидим, собираем, слушаем музыку. Вчера слушали «Золото Рейна» Вагнера, что за один вечер осилить невозможно, в другой раз 9-ю симфонию Бетховена, позавчера «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, в какие-то дни можем послушать несколько пластинок «Аквариума» или пять раз подряд альбом «Знак огня». И это не просто для снятия стресса, это для неприобретения стресса.
Николай Нелюбин специально для «Нового проспекта»
Справка «Нового проспекта»:
Всеволод Гаккель.Родился 19 февраля 1953 года в Ленинграде, в семье океанографа Якова Яковлевича Гаккеля. Внук изобретателя и авиаконструктора Якова Модестовича Гаккеля. Окончил музыкальную школу по классу виолончели.
Увлекшись в подростковом возрасте The Beatles, стал играть на бас-гитаре в школьной бит-группе Vox. Учился в кинотехникуме на отделении «Монтаж и эксплуатация киноустановок», но, не окончив, ушёл служить в Советскую армию. Во время службы на Кавказе в городе Марнеули играл на бас-гитаре во время танцевальных вечеров в составе гарнизонной группы.
В мае 1973 года Гаккель вернулся в Ленинград. Работал экспедитором и грузчиком в Доме грампластинок. В том же году, познакомившись со скрипачом Никитой Зайцевым, приобщился к ленинградскому рок-андеграунду. Неудачно пытался поступить в Музыкальное училище им. Римского-Корсакова. Летом 1974 года вступил в фолк-рок-группу «Акварели».
В 1975 году на концерте познакомился с Борисом Гребенщиковым и Дюшей Романовым и вскоре стал музыкантом «Аквариума». Оставался в группе до 1988 года. Виолончель Гаккеля можно найти в записях групп «Кино» и «Алиса». Сотрудничал с самыми разными музыкантами.
Много путешествовал, после чего при поддержке единомышленников в 1991 году основал клуб TaMtAm. Клуб послужил примером для всех последующих музыкальных клубов. Именно здесь состоялись такие группы, как «Химера», Markscheider Kunst, «Король и шут», «Нож для Фрау Мюллер», Tequilajazz, Spitfire, «The Пауки» и многие другие.
Музыкант был постоянным участником «Поп-механики» Сергея Курёхина. Был первым арт-директором фестиваля SKIF (ежегодный международный фестиваль имени Сергея Курёхина). В 2004 году выступал в составе супергруппы The Optimystica Orchestra, которую лидер Tequilajazz Евгений Фёдоров собрал из бывших музыкантов клуба TaMtAm.
В 2000 году издал книгу «Аквариум как способ ухода за теннисным кортом», которая помимо истории музыканта и группы «Аквариум» рассказывала о развитии рок-музыки в Ленинграде-Петербурге.
Известен как организатор петербургских гастролей всемирно известных иностранных музыкантов. В 2017 году стал главным героем документального фильма
«TAMTAM: музыка смутного времени» режиссёра Ивана Бортникова. Работает в клубе «A2».
Фото обложки: Alina Platonova