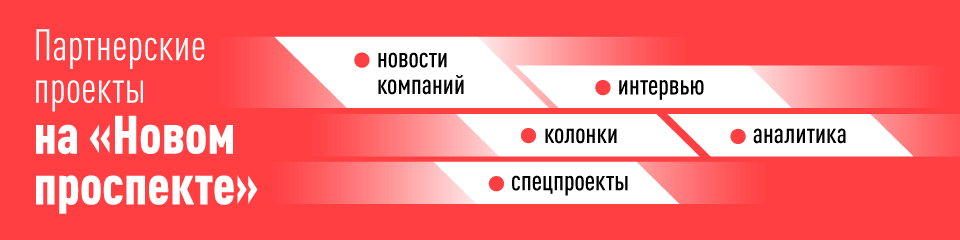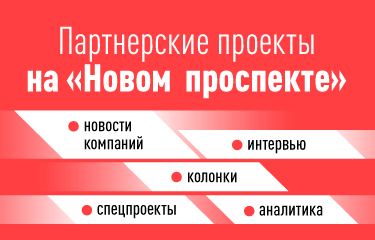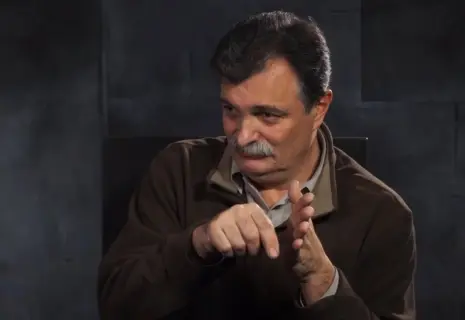Тупик романтики. Через 30 лет после ГКЧП победителей не оказалось

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Три десятилетия спустя объявления о том, что власть в СССР переходит в руки Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, в России так и не разобрались, что это было.
Нет, тогда выбор был для многих очевиден: толпы людей собирались возле Белого дома защищать демократию от реваншистов. В Белом доме тогда находился Верховный совет РСФСР, там Борис Ельцин развернул штаб борьбы с ГКЧП. Парламент был символом перемен, и никто еще не знал, что всего через 2 года первый президент России будет расстреливать его из танков. Эти два важных события всё-таки образуют историческую рифму.
Но год за годом опросы показывают, что события августа 1991 года забываются: по данным ВЦИОМ, 16% уже ничего о них не слышали. Многие сейчас, как выясняется, уже путают, кто был за кого, записывая в ГКЧП его противников: 10% считают, например, что среди них был Ельцин. Последний член ГКЧП, бывший зампредседателя Совета обороны Олег Бакланов, скончался за считанные недели до круглой даты, но его, понятно, уже совсем никто не вспомнил.
Удивительного здесь, наверное, мало: новые поколения не помнят путча, а в современной российской историографии этот сюжет, мягко говоря, непопулярен. Про взаимоотношения древних украинцев с древними русскими мы и то теперь с подачи Владимира Путина больше знаем. Это актуально, а последняя попытка сохранения СССР — нет. Август 1991-го практически никак не отражен в массовой культуре, не запечатлен в городской топонимике, о нем не рассуждают президенты. На этом месте в истории остался заросший редкими мемуарами пустырь. Споры о том, восстановить ли на нем памятник Дзержинскому, остаются сотрясанием воздуха. Лишь раз Путин признался, что в те дни сделал выбор в пользу демократии, и написал заявление об отставке из КГБ. Потом, впрочем, он, как известно, благополучно реинкарнировался уже в российской госбезопасности.
Тридцать лет назад, да и всё последующее десятилетие, путч воспринимался как символический перелом исторического процесса, акт окончательного крушения советской империи. Фактически — чуть ли не революцией. Хотя процесс дезинтеграции лишь хронологически завершился после путча, на самом деле он уже шел к тому моменту на таких оборотах, что попытка удержать СССР в прежнем качестве, как предлагали путчисты, представляется отчаянной, но очень наивной.
Сейчас он кажется уже не точкой перелома, а всего лишь какой-то археологической меткой в путаной российской истории. Одни романтики мечтали о демократии и встраивании в западную цивилизацию, другие отваживались на обреченный мятеж, тоже, видимо, представляя себя кем-то вроде последних защитников Брестской крепости, но новая российская власть в XXI веке замела под ковер и тех, и других. Не победил никто: ни революционеры, ни контрреволюционеры. Победили совсем другие люди, которые с успехом пользуются идейными установками романтиков в исключительно прагматических целях. А романтики с обеих сторон баррикад оказались в роли того медведя из сказки про вершки и корешки, каждый раз получая декоративный утешительный приз вместо реально ценного ресурса.
Самым большим разочарованием стало осознание того, что демократия, которую вроде бы отстаивали тогда на баррикадах, внезапно обернулась не демократией вовсе. Институты, которые были созданы в новейшей России, оказались не тем, чем представлялись, спокойно изменили сущность, внешне при этом оставаясь в прежних рамках: парламент продлевает до бесконечности полномочия бессменного главы государства, уполномоченный по правам человека поддерживает преследование оппозиции. И всё это получилось как-то естественно, само собой.
Суперпрезидентская власть, созданная для защиты от реванша консерваторов, используется теперь по прямому назначению, но она для этого и была конструктивно предназначена, просто никто не замечал. Протестовать в 1990-х было ещё можно, но толку от этого уже не было, и продавливание Ельцина на второй президентский срок принципиально мало чем отличалось от «поправки Терешковой». Даже тот факт, что арестованных участников ГКЧП довольно скоро выпустили безо всяких последствий и «черных меток» (потом почти все они благополучно инкорпорировались во власть на должности советников и консультантов: Крючков работал у Путина, Язов в Минобороны, а также руководителей разных общественных фондов), выглядит уже признаком не столько великодушия новой власти, сколько молчаливого признания преемственности уже тогда.
Различия между противоборствующими сторонами оказались стерты до такой степени, что сейчас почти половина россиян (47%) считает путч всего лишь эпизодом внутренней борьбы за власть в руководстве страны. Впрочем, такая оценка всегда превалировала. В 1994 году её, утверждает тот же ВЦИОМ, придерживались 53% опрошенных. Победой демократических сил над КПСС путч всегда считали лишь 7–9% (Левада-центр дает чуть больше — 10%). Большинство (53%) не может дать внятного ответа на вопрос, изменилось бы что-нибудь в случае победы ГКЧП или нет.
Сожалеть здесь остается разве что о духе времени: был у нас в истории краткий период, когда политики руководствовались идеями, а народ имел право и возможность не просто высказываться, но и действовать в своих интересах. Хотя мы уже об этом и забыли. Если в начале 1990-х больше половины россиян, согласно опросам, считали, что ГКЧП потерпел неудачу из-за сопротивления народа, то уже 10 лет назад таких набиралось меньше 20%. Победил действительно пластмассовый мир, макет СССР оказался сильней, чем он сам.
ГКЧП был авантюрой, но на нее решились, хотя путчистам было страшно, и решились, кажется, все-таки из идеалистических, а не корыстных побуждений. Большой вопрос, найдутся ли такие авантюристы среди сегодняшних силовиков в случае, если следующий президент решит демонтировать в стране силовую вертикаль. Возможно, прагматизм уже не позволит этого сделать. Принудительная атрофия воли стала главным последствием путча, которое мы заметили слишком поздно.