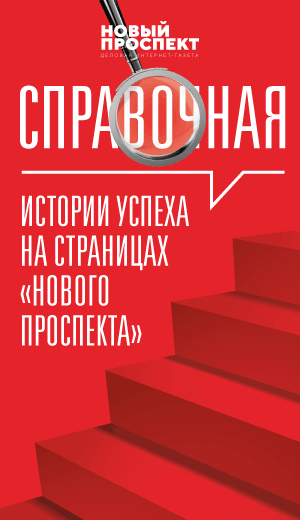Клиентская бесценность
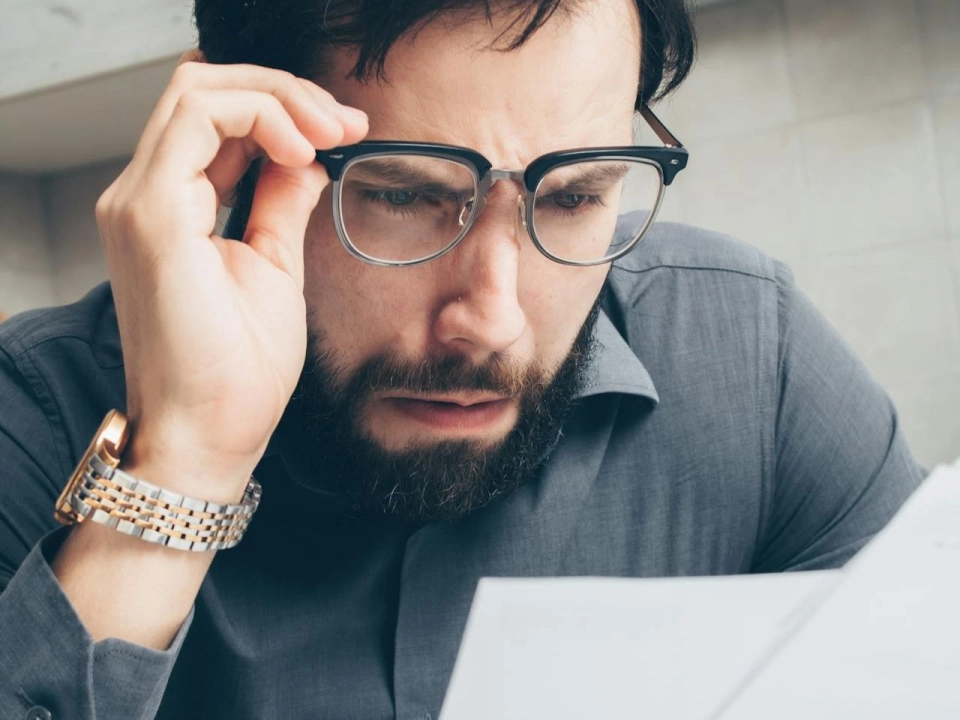
Финансовые продукты должны соответствовать ожиданиям потребителей. Презюмируется, что частные клиенты вправе ошибаться и оспаривать даже добровольно совершенные операции. Повышенные стандарты защиты прав потребителя на кредитные организации возложил Верховный суд России.
Одной из недобросовестных практик пока остается мисселинг (misselling — «неправильная продажа», англ.) — предложение одного финансового продукта под видом другого. В частности, стимулируемые солидными премиями банковские клерки зачастую навязывают клиентам «супервыгодные» инвестиционные и страховые программы, иные порой рискованные продукты.
Страховая близорукость
В спорной ситуации оказалась Лариса Дадуева, обратившаяся в офис ВТБ с намерением положить накопленные 2 млн рублей на срочный депозит. Но, по ее словам, руководитель группы по работе с состоятельными клиентами настоял на заключении якобы более выгодного договора по программе «Фиксированный доход».
Только позже Лариса Дадуева осознала, что на самом деле вместо вклада купила полис добровольного страхования жизни компании «СОГАЗ-Жизнь», заморозив свои накопления на 6 лет. Однако страховщик отказался досрочно расторгнуть договор и вернуть двухмиллионную премию. В компании полагали, что банк действовал в ее интересах и надлежащим образом проинформировал клиента обо всех условиях программы.
Районный суд пришел к выводу, что истица не была заинтересована в заключении договора личного страхования на столь длительный срок без права досрочного возврата. «При обращении в банк она преследовала единственную цель — размещение временно свободных денежных средств во вклад и была введена менеджером банка в заблуждение относительно условий страхования», — заключил суд, признавая договор страхования недействительным.
В то же время апелляционная инстанция поддержала доводы страховщика о раскрытии всей информации и добровольном подписании документов клиентом: «Разумность и осмотрительность действий стороны договора предполагается», — отмечается в апелляционном определении.
Верховный же суд России напомнил, что спорный договор от имени страховой компании заключался сотрудником ВТБ. Но, отклоняя иск пострадавшего клиента, нижестоящие инстанции «не оценили полномочия этого сотрудника и степень влияния данного обстоятельства на волеизъявление Дадуевой Л.И.». Поэтому принятые в пользу страховщика решения были отменены, а дело возвращено на новое рассмотрение.
Неправильным курсом
Иск против ПАО «Сбербанк России» подал его премиальный клиент Валерий Пудов. Он хранил на срочном вкладе €160 тыс. Утром 5 марта 2022 года через мобильное приложение клиент за 14 минут провел сразу четыре конверсионных операции между евро и долларами, в результате чего потерял более трети накоплений (€56 тыс. евро). Осознав это, он уже через полчаса обратился к персональному менеджеру с требованием аннулировать явно убыточные операции, но получил отказ.
По словам Валерия Пудова, после «изменившейся политической и экономической обстановки в стране» [начала СВО], повышения ключевой ставки и введения ограничений на валютные операции он обратился к персональному менеджеру, которая и предложила «переоформить вклад на более выгодных условиях», но не разъяснила клиенту последовательность таких действий в системе «Сбербанк онлайн».
Районный суд констатировал, что потребитель «заблуждался относительно условий оспариваемых сделок, поскольку не обладал необходимыми правовыми и техническими познаниями для правильного понимания сути заключаемых сделок». Со «Сбера» взыскали удержанные €56 тыс., а также 50%-ный штраф (еще €28 тыс.).
Дело дважды проходило через кассацию. В итоге областной суд пришел к выводу, что спорные операции совершались самим клиентом «в отсутствие какого-либо противоправного прямого либо косвенного воздействия со стороны банка». «Заблуждение относительно мотивов сделки не является достаточно существенным для признания сделки недействительной», — отмечается в решении.
В свою очередь, высшая инстанция установила, что размещенные в системе «Сбербанк онлайн» курсы покупки-продажи валют при проведении спорных конверсионных операций не применялись. «Таким образом, приведенные условия заключенного между сторонами спора договора прямо не отождествляют курсы покупки/продажи валют и курсы их конверсии», — заключил Верховный суд России.
Честь имею
По данным Банка России, в минувшем году зафиксированные случаи мисселинга сократились более чем в 2 раза. «Тренд на снижение начался после того, как в 2023 году Банк России был наделен полномочиями приостанавливать продажи, при которых были нарушены правила информирования людей», — поясняют в пресс-службе регулятора.
Доцент факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Тимофей Мазурчук полагает, что чаще всего мисселинг фиксируется из-за недобросовестности отдельных сотрудников и отделений, а не общей политики крупного банка: «Хотя встречаются случаи и «задвоения» услуг. Например, МФО навязывает сразу несколько страховок по займам, а иногда еще и «защитные» подписки. Причем, формально прописывая условия в договоре, компании упускают из вида клиентов, что выплаты производились только по одной из страховок, делая остальные бесполезными для заемщика», — отмечает Тимофей Мазурчук.
В то же время, по словам руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты, грубого мисселинга, когда под видом вклада продают накопительное страхование [как ВТБ поступил с Ларисой Дадуевой], «мы уже не видим». «Манипулирование выбором тоже может приводить к недовольству потребителей. Клиентская ценность — соответствие фактического результата использования продукта ожиданиям потребителя», — заявил Михаил Мамута на прошедшем в Санкт-Петербурге Финансовом конгрессе.
Руководитель проекта «За прав заемщиков» Евгения Лазарева предлагает оценивать клиентскую историю. «Если пользователю суперконсервативных продуктов впаривают совсем другое, должен включаться триггер. Очень важно качество донесения информации до потребителя. Если участник рынка уклоняется от соблюдения стандартов раскрытия, должен работать досудебный механизм урегулирования», — полагает Евгения Лазарева.
По мнению первого заместителя генерального директора АО «ГСК Югория» Андрея Языкова, предупредить конфликты поможет унификация услуг. Вряд ли частный клиент, сидя в офисе, может прочитать правила страхования объемом 30, 60 или 80 страниц мелким шрифтом. Регулятор поддерживает эту идею: «Продукт должен быть выгодным для рынка и понятным для потребителя. Стандартизация должна быть разумной, зацементировать всё в наши намерения не входит. Существует свобода конкуренции, и потребитель голосует ногами. Но ни в одной стране мира нет терпимости регулятора к нечестности продаж. К участнику рынка, которого ловят на вранье, злоупотреблении правом или манипулированием как сильной стороны, применяются жесткие санкции», — резюмирует Михаил Мамута.
Правовой советник Дарья Петрова напоминает, что действующее законодательство не определяет, насколько детально кредитные организации обязаны объяснять своим клиентам суть совершаемой операции. «Но на практике банк как профессионал должен максимально детально, на простом и понятном для гражданина языке объяснить суть операции, сколько это стоит и какие выгоды или недостатки имеет. Если этого не сделано, у потребителя есть право оспорить договор или вернуть деньги: он на самом деле не хотел платить за ненужную ему услугу», — полагает Дарья Петрова.
Некоторые меры по предупреждению, в частности, подмены вкладов договорами инвестиционного страхования жизни уже введены. С 1 октября прошлого года для приобретения сложных страховых продуктов с инвестиционной составляющей неквалифицированный инвестор должен успешно сдать специальный тест, подтверждающий понимание им условий и рисков таких сделок.
Отдельные кредитные организации вводят дополнительные процедуры. «Если банк продает страховой продукт, на следующий день страховая компания звонит и убеждается, что покупка совершена осознанно. И есть механизм, позволяющий открутить всё назад, если клиент в общении с продавцом что-то недопонял. У человека есть право на ошибку и возможность ее исправить», — убежден директор розничного бизнеса Альфа-банка Иван Пятков.
В 2024 году суды рассмотрели 35,4 тыс. исков о защите прав потребителей финансово-кредитных учреждений, 29,8 тыс. (84,3%) было удовлетворено.