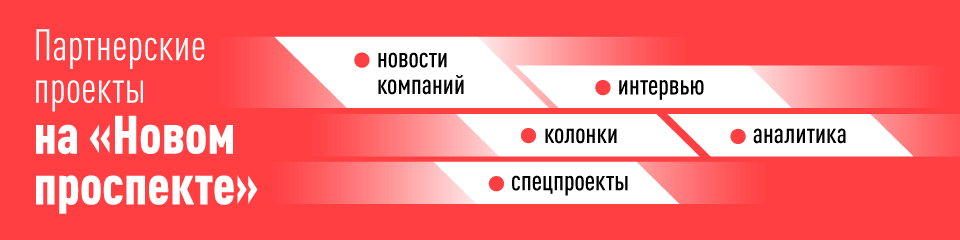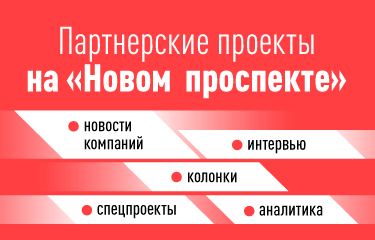Илья Фоминцев: «У меня был план, и я его придерживался»

Фото из личного архива Ильи Фоминцева
Два года назад известный российский онколог, изменивший подход к лечению рака в нашей стране, основатель Высшей школы онкологии, фонда «Не напрасно» и сервиса для онкологических пациентов «Всё не напрасно» Илья Фоминцев вместе с женой и детьми улетел в Израиль. Там он создал международную организацию International Health Equity Agency (IHEA). Весной 2023 IHEA запустила сеть школ постдипломного медицинского образования IPSM — International Postgraduate School of Medicine. Первый проект под брендом IPSM начал работу в Казахстане. По задумке Ильи Фоминцева, IHEA будет развивать онкологию в странах на постсоветском пространстве. В перспективе он надеется развить систему и вернуть ее в Россию. «Новому Проспекту» Илья рассказал про промежуточные итоги, трудности эмиграции и свои планы.
IPSM.KZ — Высшая школа онкологии и онкогематологии в Казахстане — стартовала 1 октября 2023. Прошел почти год, в июле 2024 вы набрали второй поток резидентов. Какие итоги можешь уже подвести?
— Мы вышли на более-менее стабильное финансирование. Оно в разы больше, чем могла себе позволить Высшая школа онкологии (ВШО) в Петербурге. Связано это с тем, что в России многое делалось на волонтерских началах. В Казахстане такой возможности уже нет: для большинства участников проекта это уже не родная страна и они, разумеется, не будут волонтерами.
Устаканилась программа, штат. В казахстанской школе преподают лучшие врачи из США, России, Израиля, Казахстана, стран Европы. В трех городах появились клинические базы: в национальном онкоцентре в Астане; в Караганде на базе региональной онкологической больницы; в онкоцентре города Семей (бывший Семипалатинск, рядом с бывшим ядерным полигоном, из-за чего до сих пор высокая заболеваемость раком). Встаем на ноги потихоньку. Всё происходит сильно быстрее, чем когда-то в Высшей школе онкологии (ВШО) в Петербурге. Мне пока нравится, как всё идет. Было сложно деньги найти, но нашли.
В попечительском совете IPSM.KZ присутствует Диляра Айдарбекова — общественный деятель, казахстанская предпринимательница. Как я поняла, ты искал финансирование с ее помощью.
— И с ее помощью, и с помощью собственных связей. Меценатами школы стали многие предприниматели, однако основной вклад внес крупный инвестиционный холдинг, который специализируется на IT-проектах. Его основатель и мажоритарный акционер лично столкнулся с проблемами лечения рака в Казахстане, и он принял решение поддержать наш проект. Ключевая мотивация для наших меценатов-предпринимателей — это патриотизм в хорошем смысле этого слова. Люди хотят изменить онкологию в своей стране. И это уже происходит.
Финальный отбор первых резидентов школы прошел в первой декаде августа 2023 года. Конкурс в школу составил свыше 300 заявок. В итоге отобрали 19 человек. Для студентов обучение полностью бесплатное. Это лучшие выпускники медицинских вузов. В Казахстане, по разным оценкам, от 480 до 520 онкологов. Мы планируем ежегодно набирать по 15–20 новых слушателей и за 5–6 лет выпустим около сотни врачей, это будет каждый пятый специалист такого профиля в стране. Это полностью изменит ландшафт казахстанской онкологии и онкогематологии. Мы создадим в Казахстане источник кадров такого качества, чтобы вся Центральная Азия приезжала туда за лечением. Казахстан может стать центром медицинского туризма регионального значения — всё для этого есть.
Если я верно помню, вы познакомились с Дилярой, когда ты организовывал «медицинский самолет» осенью 2022, чтобы вывезти 250 медиков из России.
— Да, она помогла с устройством семей российских врачей в Астане. Уже тогда появилась идея о совместном проекте в Казахстане. В той ситуации мы ожидали, что границы перекроют как минимум для военнообязанных, но границы не перекрыли, и часть — примерно треть — врачей потом вернулась обратно в Россию и стала работать там же, где раньше. Остальные — кто-то остался в Казахстане, и с ними мы делаем проект, кто-то разъехался по другим странам, очень много врачей осело в Армении, кто-то в Узбекистане, кто-то в Америке, кто-то в Европе. Часть в Молдове. Кстати, именно поэтому я здесь оказался: ко мне обратилась местная крупная клиника, спросили, нет ли у меня выпускников. Им позарез нужны были онкологи, а у меня как раз были разъехавшиеся врачи без работы. Они приехали — клиника счастлива. А потом пригласили меня в гости, посмотреть, как тут всё устроено. И я приехал, мне город понравился, и я решил поехать в Молдову, пожить какое-то время тут и попытаться сделать еще одну школу сети.
Получается, часть твоих выпускников задействована в твоем проекте в Казахстане и будет — в Молдове, если всё состоится.
— Да, часть задействована.
Ты сейчас в Молдове, чем занимаешься?
— Делаю серию лекций на базе Библиотеки цивилизаций имени Марка Блока. Это популярное место, которое, с одной стороны, научный центр, с другой — место встречи очень многих людей, политиков. Здесь очень оживленная политическая арена. Страна маленькая, министра можно в баре встретить. Здесь, кстати, всё вокруг вина крутится, здесь вино, как нефть в России. Город Кишинев небольшой, хоть и почти половина населения страны в нем находится — 1 млн из 2,5 млн. Очень зеленый уютный город, мне нравится. Поживу, попробую создать широкую общественную дискуссию вокруг проблемы онкологии, вовлекать людей в коалицию. Из этого должна родиться новая школа.
Скучаешь по Питеру?
— И по Питеру, и по Москве, по тому общению, которое сложилось у меня в этих городах. Тяжело.
По-моему, все люди, с которыми ты создавал творческую коллаборацию, переехали вместе с тобой, они сейчас вне России.
— Далеко не все. Это сказки про Лупоглазку, что нормальную коммуникацию можно поддерживать в Telegram, Zoom, по интернету. Нет. Творческая атмосфера рождается при живых встречах, когда несколько человек встречаются регулярно. Не потому, что они в зуме договорились посовещаться в 15:00, а потому что они в этом месте бывают. Тогда рождается творческая атмосфера. Можно это всё восстановить, но сложно и долго. Надо заново создавать круг общения, создавать места, где люди бывают. По сути, это офисы.
Пандемия изменила весь подход к взаимодействию. Все прекрасно общались через зум, делали кучу крутых вещей удаленно.
— Гораздо больше крутых вещей они делали без зума, в том числе и сам зум. Пандемия сильно повлияла на атмосферность людей. Удаленка — это зло для творческих людей, однозначно.
Я творческий человек и на удаленке сделала кучу крутых вещей.
— Твое творчество, видимо, индивидуальное, у меня — коллективное, мне нужен мозговой штурм, юмор, непосредственные живые реакции, такая среда мне нужна для жизни, а меня, как рыбу, из этой воды вытащили, и мне теперь эту воду вокруг себя создать непросто. Эмиграция — очень сложная штука. Себя надо очень долго восстанавливать. Десоциализация случается. Да, она была бы еще сильнее без социальных сетей, Telegram, Zoom и прочего. Эти инструменты нужны, но только их недостаточно.
Мне кажется, ты у нас такая рыба, которая и по земле, и по суше. Ты взял и спокойно придумал проект в Израиле.
— Ни разу не спокойно. Я 2 года существовал в режиме сумасшедшей гонки, бесконечного дня сурка, надо мной постоянно висел финансовый топор — где взять деньги, чтобы прокормить семью. Я приехал с 300 тыс. рублей в страну, в которой никогда до этого не был. Я знал, что это родина предков, но никогда не планировал жить в Израиле, я был гражданином Санкт-Петербурга. И вот я оказался в новой стране без языка, без работы, без накоплений: 300 тыс. рублей — это 1,5 месяца аренды квартиры в Израиле. Всё делалось в экстренном порядке по той простой причине, что я остался без средств существованию, когда эмигрировал. И хотя я все-таки смог снять квартиру, моя ситуация, по большому счету, не сильно отличается от беженства.
Когда ты создавал израильский фонд, ты написал, что поговорил с минздравом Израиля и что в Израиле тоже дефицит онкологов.
— Да, этот проект остается возможным, но я пока его не трогаю. Когда я приехал в Израиль, мне нужно было срочно запустить проект, который сразу полетит и поможет выжить, ведь стоял вопрос о физическом выживании — где брать деньги на еду, жилье для семьи. Было много идей, я запустил пять разных линий деятельности, забросил пять удочек, некоторые вообще никак не были связаны с медициной. Выстрелил этот проект — IHEA. Государство Израиль поддерживало первые полгода, а потом надо было что-то решать. К тому же после «медицинского самолета» я остался денег должен. Я одолжил значительную часть денег, а потом возвращал — не из своих: собирал на возврат долга, но это надо было еще собрать. Очень мрачное было время. Надо было и долг вернуть, и как-то семью прокормить, а где брать деньги — неясно.
Ты замечаешь? Когда тебе нужны деньги на общественные проекты, ты собираешь деньги по щелчку. При этом абсолютно не заботишься о себе.
— Ну не по щелчку. И действительно сложно объяснить донорам, что ты тоже человек, что у тебя семья… И до сих пор эта проблема существует. Объяснить донорам, что существуют зарплаты у тех, кто этот проект делает, было сложно всегда, это проблема, известная любым НКО. Потому что доноры считают: мы на проект пожертвовали, а зарплаты-то тут при чем? Они там святым духом питаются. Это реальная проблема, доноры очень часто смотрят именно этот раздел и спрашивают: а почему такие высокие зарплаты?
Ну потому, чтобы делать правильные вещи, нужны квалифицированные люди, и они должны тоже есть, жить и т.д.
— А потом у тебя начинают спрашивать: а как вы поняли, что вы настолько квалифицированный человек, чтобы получать такую зарплату? И когда ты общаешься с финансистом, ты будешь объясняться именно в таком тоне. Но чтобы выжить в Израиле и вообще в эмиграции, нужны именно такие зарплаты. И я в Израиле со своей зарплатой еле свожу концы с концами. Это способ выжить.
Если ты помрешь от голода, никакого фонда не будет.
— Часть доноров это понимает, часть нет. Это известная проблема всех НКО.
Вот президент «Предание.ру» Владимир Берхин об этом много говорит: что в Америке, Европе это нормальная вещь, и нам нужно к этому стремиться.
— Ну по-прежнему многие люди воспринимают, что расходы на сам проект — это понятно, а расходы на людей — это другое.
Я сейчас научился находить средства на работу штата, чтобы штат получал зарплаты. Дело в том, что в России я сделал так, что фонд много зарабатывал сам — гораздо больше, чем получал пожертвований.
А здесь можно такую схему придумать?
— Можно, но позже, при наличии активов, экспертизы. В России ВШО рождала очень много выпускников, они обладали огромной экспертизой и были готовы волонтерить в пользу фонда на проектах, которые приносили фонду деньги, которые затем тратились на ту же ВШО. Суммарная экспертиза выпускников ВШО в онкологии невероятно огромная. И это позволяло делать такие проекты, как «Не напрасно». Клиентами этого проекта являлась и является крупная фарма, они крайне заинтересованы в том, чтобы пациенты были образованы. Это для них прямая выгода: чтобы онкологические пациенты разбирались в том, что им может предложить современная медицина для лечения рака. Это не реклама, это просвещение. Но для этого нужна огромная экспертиза, тогда такие проекты возможны. Понятно, что у меня сохранились связи со всеми выпускниками ВШО, и они активно участвуют во всех проектах, помогают, чем могут. Тем не менее пока собственной экспертизы в Казахстане не так много — не было еще ни одного выпуска. А чтобы запускать в Казахстане проекты, нужны местные врачи-выпускники. Мало времени прошло. Рано пока.
А сколько фонду в России было лет, когда он начал зарабатывать?
— Лет девять. В новом международном проекте всё произойдет гораздо быстрее, думаю, раза в два. Казахстан — первая страна нашего израильского проекта, и школа там уже работает. Мы крайне близки к тому, чтобы стабилизировать все процессы. И я, видишь, уже не дожидаясь этого, начал делать что-то в Молдове. А как только в Казахстане всё окончательно стабилизируется, я смогу открывать другие страны, и каждая последующая школа будет открываться и развиваться быстрее и быстрее. Я это уже вижу по Казахстану: когда ты идешь второй раз по этому пути, всё проще и быстрее.
Когда начнет зарабатывать школа в Казахстане?
— Я думаю, через пару-тройку лет. Я уже совершаю первые действия в эту сторону, это произойдет. Если доживу. Всё это время, нервы, всё это приходится проходить в гиперстрессовом режиме. Ощущение, будто стоишь на краю пропасти, спиной к ней, за пятками — меньше миллиметра, а на тебя прет танк. Вот с этим ощущением приходится жить. Первого августа как раз исполнилось 2 года, как я улетел из Питера, из России, и всё это время — сплошной стресс самых разных генезов. Я не припомню более тяжелого периода в своей жизни. И это на фоне тотального истощения — в последний раз я был в отпуске во время ковида в 2020, потом СВО, потом эмиграция, потом еще одна война — в Израиле, потом бесконечные командировки с полетами по 15–17 часов один конец. Всё это здоровья не добавляет ни разу. Я в состоянии терминального истощения, но пока еще трепыхаюсь. Эмиграция — она такая, это не устрицы ни фига. Сейчас в Молдове я немного снизил градус напряжения и как-то даже начал спать.
Я смотрю на своих друзей, медиков в том числе, которые уехали и в итоге попали в не меньший стресс и ужас.
— Я уезжал не из-за стресса. У меня был мотив совершенно другой: я очень хорошо понимал, что мне не дадут работать в прежнем формате. Мой формат работы связан с критицизмом, созданием публичной дискуссии. Если ты не атакуешь изъяны, которые ты хочешь исправить, ты их не исправишь. Ты не можешь пользоваться этим инструментом больше: находить коалиции, которые против этих изъянов, которые выступят за реформы. Тебе не дадут работать, тем более с моим анамнезом. А раз работать не дадут, это отразится на фонде самым прямым образом — экзистенциальная угроза.
Ну и, кроме прочего, это ведь будет жизнь Премудрого пескаря: не высовываемся, сидим тихо, как бы чего не вышло. Нет, это не моя жизнь. И еще у меня была злость на то, что происходит: я делал то, что делал, много лет, наконец добился каких-то результатов, которые позволяли думать, что разовью это дальше, и тут опять пришли какие-то уроды и всё сломали. Я хотел на это ответить.
Не просто тем, что я сохраню сделанное, а тем, что я разовью то, что делал. Единственный способ был — развить вне России с тем, чтобы потом в Россию вернуться. Я до сих пор от этой идеи не отказываюсь. Когда давал интервью BBC в апреле 2022, еще до отъезда, я ровно это и говорил: уеду, чтобы развивать снаружи. Сейчас так и происходит. Было тяжело, мне казалось, что всё шло не по плану, а потом я наткнулся на то интервью, перечитал и обалдел: всё идет по тому плану. Эта мысль немного поддерживает. Как в том меме: у меня была тактика, и я ее придерживался. Но поддерживает не сильно: ясно же, что в любой момент всё снова может сломаться.
На данный момент (я уже ничего не загадываю) генеральная идея сохраняется: использовать ту экспертизу, которую я создал в России, создать снаружи нечто не менее, а более серьезное (и так пока и получается), развить это в разных странах, создать сложную систему взаимоотношений между школами в разных странах, запустить обмен ресурсами между странами и вернуться обратно в Россию, когда это станет возможно. Пока план сохраняется.
Но если не брать стресс, ты делаешь то, что ты умеешь, то, что ты делаешь лучше всего, обращаясь к уже имеющимся наработкам и связям. Так ведь?
— Надеюсь. Да, это поддерживает.
И одно дело — делать проекты в любимых городах Москве и Санкт-Петербурге, другое — сделать так, чтобы об этом узнал весь мир.
— Я сейчас как раз завел разговор об этом с коллегами, что нам надо выводить всё на уровень глобальной коммуникации и позиционировать проект в глобальной онкологии как трансформирующий проект для всего постсоветского пространства. По факту это так, проект уже идет в двух странах постсоветского пространства. Кроме того, в медицине и в медицинском образовании на всём постсоветском пространстве совершенно одинаковые проблемы. Похожи с точностью до мелочей, что отдельно удивляет: 30 лет люди развивались в разных странах, но как будто срисовывали проблемы друг с друга. И это интересный опыт. Когда это всё закончится, я буду вспоминать об этом как о ценном опыте. Мало у кого была такая возможность погрузиться в медицину других стран настолько глубоко, что ты являешься частью политической картины в медицине этих стран и влияешь всерьез на политические процессы, затрагивающие медицину. Сейчас я погружаюсь во внутреннюю кухню медицины Молдовы. И настолько, ты не представляешь, похоже: мне говорят, что «у нас уникальная проблема», а я понимаю, что это абсолютно решаемый вопрос, я его решал недавно в другой стране. Всем внутри своей страны кажется, что они невероятно уникальные. В России, дескать, особый путь, аршином общим не измерить. Да, а Казахстан — измерить? А там то же самое. Один в один. До изумления. В Молдове — то же самое.
Можешь назвать основные одинаковые паттерны?
— Монополизация медицины, отсутствие конкуренции в медицине — очень характерная проблема в онкологии. Все постсоветские страны обрастают этим. Есть главный онколог. В России сейчас аж два — они раздвоились. А кто мне объяснит, что такое «главный онколог»? Тот, кто знает, как лучше рак лечить? Самый великий онколог? А как в Израиле, США живут без главного онколога? Обошлись, живут, онкология не рухнула никуда. А на всём постсоветском пространстве есть главный внештатный специалист — это люди, которые определяют политику, которые влезают носом куда угодно (и у них такое право есть), которые во многом определяют стратегию закупок. И поверь мне, когда назначается одно лицо, влияющее на стратегию закупок, это создает коррупционную ситуацию. Потому что к этому лицу вереницей начинает идти крупный бизнес, который хочет ему что-то продать. А это ребята тертые, они слабину найдут. И их много. Второй момент — вранье сплошное. На бумаге и в жизни: два мира, два Шапиро. Бумаги пишутся максимально расплывчато, намеренно неясно, таким образом, чтобы, с одной стороны, ты никому ничем не был обязан, а с другой стороны, именно из-за этого всегда есть за что прищучить. Условно: пишется документ о медицинском образовании, и в нем написано, что доктор должен быть хорошим и не должен быть плохим, и это создает ситуацию волюнтаризма в онкологии. Никто не против того, что доктор должен быть хорошим, но конкретно в чём? Что он должен уметь, чего не должен? И это проблемы всего постсоветского пространства. И в России то же самое.
Третья черта: клановость и неформальность всех связей, телефонное право. Друзьям по понятиям — всё что угодно, для остальных — закон. Все серьезные решения принимаются непрозрачно. Нет сформированных влиятельных профессиональных сообществ. В лучшем случае есть симулякры и фейки: какая-нибудь прикормленная ассоциация с президиумом, который принимает решения как положено, а реальной выборности, никакой демократии там нет, реального мнения врачей никто не учитывает. Врачи ни на что влияют и не хотят уже ни на что влиять — отучили.
А может такое быть, что вы, медики, как коты, — вас невозможно собрать в стаи, вы не собираетесь просто?
— Не может. Исключено. Мы отлично собираемся. Мы можем договориться, это происходило в разных странах много раз. В США или Израиле вся медицина регулируется профессиональными сообществами, а вовсе не чиновниками, которые ничего не понимают. Сообщества принимают основные решения, как должно быть, как не должно, как квалифицировать врача, кто хороший, кто плохой. В Израиле это Israeli Medical Association. В Америке есть куча разных сообществ по специальностям. Например, American College of Surgeons — супервлиятельная организация хирургов, которая решает все проблемы, создает все протоколы, как должно проходить любое хирургическое лечение, в том числе лечения рака, большое количество научной работы проводится. Это огромная ассоциация, и она очень прозрачная. А когда решает всё один человек, он не может быть прозрачен. Вот такие характерные черты постсоветского пространства: всё непрозрачно, склонно к монополизации, коррупции… Ничего нового.
Если проблемы идентичны, и мы понимаем, что из списка по ряду причин пока выпадают Россия, Украина и Белоруссия, то еще точно остается Грузия и Армения. Ты не подумывал?
— Подумывал. Консультировался по Грузии и Армении, но пока не нашел правильных зацепок. Я понял одну вещь: в страну надо просто приехать и пожить. Выйти на улицу; пройтись, кофе заказать; с людьми поговорить на улице; посидеть на солнышке — пожить, короче, в стране надо. И хотя, может, кому-то и не очень очевидно, как из чашки кофе происходит потом школа онкологии, мне — очевидно. Онлайн коммуникация — это дополнение, а не панацея. Ты не погрузишься в страну, пока в нее не приедешь.
Вот тебе пример: я тут, в Кишиневе, сижу в кафе, пью кофе и знакомлюсь с дамой — сидит рядом, зажигалку попросила. Разговорились, она местная значимая пиарщица, знает многих, начала меня знакомить с одним, другим, третьим. Я уже понимаю расклад, что это лишь один угол зрения, это одна политическая сила. Надо посмотреть, что другие говорят. Потом примерно так же нашел другой угол зрения, с другими людьми познакомился, и вот у меня уже более или менее полная картина, сеть связей. Так это происходит. Так ты погружаешься в реальность.
Ты не можешь воспроизвести такое же качество общения в онлайне — на данный момент технологии не позволят это сделать. В зуме ты не сядешь спокойно во дворике с местным ученым, с местным политиком. В зуме все напряженные сидят. А тут тенечек, платаны, сливы падают сверху, сигарета, пепельница, кофеек, душевный разговор. Атмосфера другая. Люди совершенно себя по-другому чувствуют, расслабляются, шутят, рассказывают то, чего бы не рассказали по зуму. Так ты узнаешь, что происходит в стране, кто на ком стоял, кто против кого и какими разломами можно воспользоваться, чтобы вставить туда рычаг. Ты просто высаживаешься на местности, физически. В Грузии я еще ни разу не был. По зуму пытался: все деловые, напряженные. Если ты не Брэд Питт и не Анджелина Джоли вместе взятые, ты не можешь при онлайн-контактах по-настоящему транслировать доверие. Однозначно одно другое дополняет, но без личной встречи, без времени, проведенного в стране, ты ничего не сделаешь. Потом, когда это всё будет мультиплицироваться, другие люди будут проводить время в странах, не я, но в любом случае кто-то будет проводить время. По-другому это не работает.