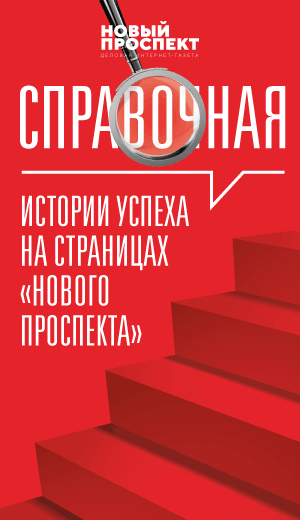Евгений Рабцун: «Я призываю всех «вальсировать» с пациентом»

Евгений Рабцун, генеральный директор группы компаний «Санталь», рассказал «Новому проспекту» о разнице между бизнесом в медицине и медициной в бизнесе, о проблемах общественных организаций здравоохранения, перспективах медицинских агрегаторов, коллаборации клиник и проектов в области искусства.
Евгений, вы много лет в частной медицине, создали крупную сеть с постоянно растущим оборотом. Как бы вы описали сегодняшний этап развития частных клиник в России? Нет ощущения, что они в смысловом кризисе?
— Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно вспомнить, что в частную медицину идут две дороги: по одной бизнес приходит в медицину, а по другой медицина приходит в бизнес. Это разные подходы, две идеологически разные модели частного здравоохранения.
И в чем разница?
— Бизнес приходит в медицину под флагом «медицина качает», и эффективные менеджеры начинают строить эффективные модели бизнеса. Показатели результативности в этом случае — финансовые показатели. А пациент — ресурс, который используется для извлечения прибыли из медицинского оборудования и помещений. Что может предложить такой инвестор пациенту? Ответ «сервис» — красивый и блестящий. Он других целей не знает. И этот «сервисный сироп» в качестве корпоративной идеологии пропитывает всю команду клиники, включая врачей.
А медицина приходит в бизнес под флагом quantum satis — «ровно столько, сколько нужно, и вовремя». Мы придерживаемся этого правила. Поэтому, когда на собеседовании врач меня спрашивает, какой у меня будет процент за назначение анализов, я отвечаю: «Ноль. Мы не продаем пациентов, мы их лечим. А за продажу пациентов мы увольняем».
Ваша клиника существует с 1994 года. Тогда бизнес тоже смотрел на медицину как на поле для заработка?
— Нет. Медицина была под контролем государства и не считалась хорошим рынком для бизнеса, было много других вариантов. А мы стартовали с организации поликлиник в удаленных жилых массивах, потому что это амбулаторное звено было самым слабым в системе здравоохранения. «Ближе к людям» — так звучала и звучит наша идея. Но доступная медицина не значит бесплатная. Если вы не чиновник, а обычный человек, вы знаете, что это не так. Доступность услуг обеспечивается деньгами, временем и расстоянием. Например, чтобы вам своевременно сделали бесплатную операцию по ОМС, вам придется заплатить в «черную кассу», иначе остается ждать осложнений для экстренной госпитализации. А знаете, сколько стоит своевременная выписка бесплатных онкопрепаратов? Спросите у онкобольных. Правда, они вам не расскажут — побоятся. Потому что разговорчивым в следующий раз откажут даже через «черную кассу». Слышали про такое? Всё верно, это вранье, в России такого нет. Никогда не сталкивались с таким? А я могу рассказать тысячи историй. Конечно, такая практика сложилась в результате деформации системы ОМС, когда полис перестал быть платежным средством. Пациента лишили права выбора врача, и деньги перестали идти с пациентом.
Получается, что сегодня доминирует первая модель частного здравоохранения — когда бизнес приходит в медицину?
— Увы. Но, как правило, она представлена смешанным вариантом. Однако доминирующее предложение от частной медицины — «сервис» и высокотехнологичный уровень аппаратной оснащенности. «Смотрите, как всё круто, смотрите, как всё блестит, платите нам за это деньги». И это работает. Платят.
А вторая модель гораздо сложнее. Она вязнет в морали и профессиональной этике. Всё это негативно влияет на доходность. Нужна ли она, если сегодня на мировом уровне ключевое слово — это «сделка»? Вопрос открытый. Но мы будем идти именно этой дорогой. Мы людей любим больше, чем деньги.
Вы были президентом саморегулируемой ассоциации частных клиник России и смогли изнутри увидеть проблемы консолидации частного медицинского бизнеса. На мой взгляд, такие организации не способны сформировать устойчивое лобби для развития отрасли, они просто выполняют распоряжения сверху. В чем причина такого положения дел?
— Ключевая проблема — страх. Российское общество пропитано и заморожено страхом. Это молчаливая монолитная глыба. А общественные объединения — это общепринятый элемент в сложной системе противовесов политического устройства. Если власть начинает принимать решения, негативно влияющие на те или иные слои общества, эти слои, представленные общественными объединениями, подают сигналы — выражают мнение, зачастую весьма критичное. Власть реагирует. Но мы, живущие в России, понимаем, что это работает в тех странах, где власть принимает плохие решения. В нашей-то стране такого нет. Если ты патриот, то должен принять любое решение власти. Согласны? Вот и я говорю: да. Федеральная власть всегда принимает мудрые и взвешенные решения как на законодательном, так и на исполнительном уровне. И уж тем более на судебном. В этой ситуации общественные объединения вроде как и не нужны. Зачем? Но это атрибут демократии. Значит, должно быть. Поэтому власть поддерживает общественные объединения: пожалуйста, собирайтесь и даже критикуйте в рамках утвержденных регламентов. Быть членом некоторых таких ассоциаций — способ проявления лояльности к власти. Но лоббизм — слабый метод. Наиболее эффективным инструментом является фаворитизм: входи в круг доверия, будь «ближе к телу», и всё у тебя получится. Сейчас ценятся не умные, а верные. Общественные объединения таких и объединяют. А иных у нас нет.
Сегодня многие менеджеры в частных клиниках не имеют профессионального опыта в здравоохранении и даже понимания специфики медицинской деятельности. Им важен входящий денежный поток, а не на качество медицинской помощи. Как вы думаете, долго может продлиться эта ситуация?
— Сложно сказать. Сейчас набирает обороты методика «коворкинга». Инвестор купил и оформил помещение, оснастил оборудованием и сдает в аренду врачам-гастролерам. И тема качает. Законно? Нет. Как узаконить? Если глобально, без схем, то через субъектность врача. Как только врач станет субъектом права и начнет получать лицензию на себя, эта схема легализуется. Пациент в клинике будет получать два чека: один за сервисное обслуживание, другой — за медицинское. Я такое видел своими глазами в США. И у нас так будет со временем.
Если говорить про инструменты управления, маркетинга, цифровизации и HR, то даже в крупных сетевых клиниках в этом вопросе архаика. Почему так?
— Это дорого. А если всё организовывать в рамках закона, очень дорого. Например, создание Единой государственной системы информационного обеспечения здравоохранения (ЕГСИЗ) — хорошая задумка. Только представьте, какое количество частных клиник не подает никакой информации о посещениях. Таких клиник десятки тысяч по стране, и это миллионы посещений в год. Представьте, какой слой информации выпадает из общенациональной медицинской статистики и как это влияет на достоверность информации об уровне и структуре заболеваемости, а значит, и на качество управленческих решений во всей системе здравоохранения. ЕГСИЗ — очень крутая идея, в ней ключевая роль принадлежит государству, ибо оно главный бенефициар. Но... отраслевой государственный исполнитель Минздрав четко делит отрасль на своих игроков (государственных) и чужих (частных). Своим он в информатизации помогает, в первую очередь деньгами, а чужим препятствует. Цель всего этого, на мой взгляд, в том, что чужие должны умереть. И Минздрав, как мне видится, не скрывает этих намерений. Это отраслевая госполитика. Но я считаю, она вредит национальным интересам. Государство должно обеспечить максимально комфортное и дешевое присоединение к системе ЕГСИЗ для всех.
Идея нагнать одноразовых пациентов с помощью рекламы и общипать их по полной — это отражение неуверенности бизнеса в завтрашнем дне или такие стратегии в частной медицине максимально эффективны?
— В своей поликлинической деятельности мы уже лет десять не используем рекламу. Работаем со своей базой данных. Она достаточна для того, чтобы генерировать повторные визиты. Из своей базы данных мы формируем и поток в наши стационары и санаторий. Исключением являются новые территории или новые проекты. Там действительно мы применяем краткосрочные рекламные стратегии. Но ключевым генератором является работа в ОМС.
Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос на 40% за прошлый год. Агрегаторы медицинских услуг эволюционируют и становятся для маленьких киник поставщиком пациентов. Но многие эксперты боятся их диктата. У вас больше опасений или позитивных ожиданий от развития агрегаторов?
— Я считаю, что люди, которые создали агрегаторы медицинских услуг, — хорошие предприниматели. А те, кто построил их на жалобах, — вообще гениальные. Я не разделяю идеологию этого бизнеса, но признаю, что он весьма успешный. Агрегаторы формируют поток клиентов, а это для большинства эффективных менеджеров самое то — купить готового клиента за деньги. За рубль пациента покупаем, за 10 рублей продаем. Медицинский бизнес становится простым и понятным. Это работает. Какая у агрегаторов перспектива? Хорошая. Тут как у Илона Маска со Starlink и Tesla, которые он может включить и выключить по своему усмотрению, настроению и предпочтению.
В здравоохранении появляются проекты на стыке медицины и искусства: музеи современной медицины, арт-пространства. Чего еще не хватает частным клиникам, чтобы создавать атмосферу доброжелательности, быть ближе к людям, завоевывать больше доверия?
— Стены клиники должны «говорить» с пациентом, доносить полезную и важную информацию. Если подавать ее под эмоциональным соусом, информация будет восприниматься и запоминаться гораздо лучше. Так мы будем убедительнее. Поэтому и нужна игровая, художественная форма подачи информации. Мы, например, работаем над проектом клиника-музей. Но это сложнее, чем казалось. Во-первых, нужна изящная идея изложения материала на стенах клиники. Во-вторых, сложно найти творческих исполнителей. Но я призываю всех «вальсировать» с пациентом, общаться через «настенное творчество», через геймификацию... Зачем? Это борьба за доверие. А доверие к врачу и клинике — самый прочный фундамент для эффективного взаимодействия врача и пациента.
Затронутые в интервью темы будут обсуждаться на XVIII Петербургском медицинском форуме (www.medforumspb.ru) с 16 по 18 июня
Евгений Рабцун — предприниматель, инвестор, к.м.н., ведущий эксперт Национальной ассоциации медицинских организаций в сфере страхования, управления экономикой и финансами в здравоохранении. Управляющий партнёр и генеральный директор группы компаний «Санталь», федеральной сети клиник. Общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области в сфере здравоохранения, главный редактор интернет журнала «Матерлайф». Евгений Рабцун также является членом общественной организации «Опора России».
ГК «Санталь» — сеть частных многопрофильных мединциских центров. Включает 15 филиалов в Томской, Новосибирской областях, Республике Тыве, Адыгее, Краснодарском крае.