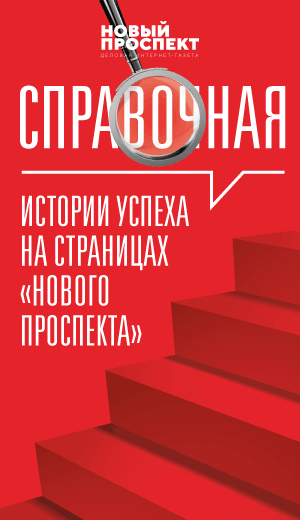Андрей Алмазов: «Поход к врачу остается ритуальным действием»

Андрей Алмазов, директор по проектной деятельности ассоциации «Национальная база медицинских знаний», рассказал «Новому проспекту», почему бренд врача важнее бренда клиники, о влиянии искусственного интеллекта на здравоохранение, проблемах телемедицины и цифровизации клиник.
Среди основных задач здравоохранения — сохранение человеческого капитала, повышение качества и продолжительности жизни. Однако эта сфера у нас развивается слабо. В чем причины, на ваш взгляд?
— Это проблема общемировая. На мой взгляд, рыночная экономика плохо совместима с социальными задачами такого рода. На деле они остаются лишь красивыми лозунгами для избирателей во всех странах. Дело в том, что экономические механизмы требуют долгосрочного планирования — на 30, 50 и более лет. Это значительно дольше, чем готов ждать капитал. Прямой экономической выгоды от заботы о здоровье людей нет и быть не может. Можно, конечно, пытаться обосновать необходимость народосбережения с макроэкономической точки зрения, но эффект будет гораздо дальше, чем горизонт мышления современных элит.
Понятие человеческого капитала, на мой взгляд, весьма спекулятивно. Оно подразумевает необходимость занятости, но не отвечает на вопрос: а зачем? Человечеству нужны здоровые и долгоживущие люди — для чего? Еще более сложный, но конкретный вопрос: зачем эти люди нужны стране и управляющим ею элитам? Ответы слишком абстрактны. И у меня самого нет четкого и конкретного ответа на этот вопрос.
Медицина способна изменить ситуацию?
— В одиночку — нет, конечно. Роль медицины — «ремонт» и немного профилактики. На здоровье влияют в большей степени другие факторы: генетика (накопленное здоровье в поколениях — отдельная сложная тема), образ жизни, отсутствие стресса (который на 80% определяется внешней средой), здоровое питание, чистая вода и так далее. То есть для реального сохранения здоровья нужны колоссальные вложения, необходимо перестраивать и улучшать образ жизни человека в целом.
Пока здесь работают только гуманитарные тренды: дескать, это нужно, потому что это хорошо. Иногда удается связать это с экономикой, и тогда возникает более мощный импульс развития, но чаще это приводит к перекосам. Например, средства, которые можно было бы направить на обеспечение населения чистой водой или доступом к врачу общей практики в месте проживания, тратят на очередные томографы. Они сами по себе не улучшают качество жизни населения, но эффектно демонстрируют электорату «достижения современной медицины».
Частные клиники в России так и не стали значимой частью системы здравоохранения. Более того, качество управления в большинстве частных клиник, даже в крупных сетях, оставляет желать лучшего. Как вы объясните эту ситуацию?
— Из моего опыта общения с руководством частных и государственных клиник следует простой вывод: врачи до сих пор сопротивляются базовому положению, что современный менеджмент — это отдельная сложная профессия. Возможно, даже не менее сложная, чем врачебная практика. Особенно если речь идет о медицинском менеджменте, где необходимо хорошо разбираться в тонкостях лечебного процесса, экономике организации работы клиники и сложных вопросах психологии. Это накладывает отпечаток на отношения в коллективе и с пациентами.
Сейчас частными клиниками руководят либо менеджеры, которые не вникают глубоко в медицинскую специфику и не понимают сложной психологии коллектива, либо врачи, получившие ограниченное и формальное образование в области менеджмента, но считающие себя экспертами в управлении. Можно ли совмещать эти роли? Споры на эту тему продолжаются много лет, но однозначно хорошо это удается лишь единицам, обладающим особым талантом.
Еще одна причина — чрезмерное регулирование отрасли, которое настолько глубоко вмешивается в вопросы управления, что оставляет мало пространства для маневра. Часто руководитель клиники занят не стратегическим менеджментом медицинской организации, а выполнением регуляторных требований, контролем денежных потоков и устранением проблем в процессах. В итоге мы имеем печальное сочетание внутренних и внешних факторов, которые в совокупности с относительно небольшой емкостью рынка коммерческой медицины и высокой себестоимостью медицинских услуг создают такой эффект.
За последние годы агрегаторы медицинских услуг, такие как «ПроДокторов», «НаПоправку», «СберЗдоровье» и др., превратились в сложные экосистемы, объединяющие цифровые сервисы клиник, прогнозную аналитику, рейтинги врачей и рекламные инструменты. Клиники становятся зависимыми от них в вопросах привлечения пациентов, продвижения услуг, телемедицины и обмена данными. Это нормально?
— Давайте разделим понятие зависимости на технологическую и маркетинговую. В плане маркетинга существует несколько каналов коммуникации и привлечения клиентов. Самый эффективный — сарафанное радио, подкрепленное созданием сильного бренда, то есть узнаваемой торговой марки. Если у вас слабый бренд, скорее всего, вы окажетесь в полной зависимости от агрегаторов. А если бренд сильный, пациенты найдут вас напрямую в интернете. И ни один агрегатор не сможет вас игнорировать.
Мы наблюдаем трансформацию рынка в его сложном движении к интернету субъектов, а не посредников. Кто является субъектом на рынке медицины? Как бы клиникам это ни было неприятно, фактически — врач. Обычно пациенты ищут не клинику, а конкретного медика. А в клинику обращаются, когда не знают, как найти врача, или не доверяют найденному специалисту. Снова возникает вопрос: чей бренд сильнее — клиники или доктора?
А что будет дальше?
— Организации постепенно превращаются в коллективные практики и коворкинги, в том числе медицинские. Поэтому я бы посоветовал руководителям клиник одно: соберите звездный коллектив врачей, помогите им работать вместе, усиливая друг друга, и станьте для них полезными. Не рассматривайте врачей как безликий ресурс, как таксистов, где неважно, кто тебя везет, главное — довезти безопасно. Медицина — это не конвейер, а своего рода ритуал. Нужно быть «духовным лидером» для своих врачей, тогда не возникнет дилеммы с акцентом на бренде врача вместо клиники.
Следует продвигать клинику как объединение команды хороших специалистов, дополняя это обещаниями качественного управления медицинским процессом. Врачам нужно давать возможность сосредоточиться на работе, а не на оформлении документации. Тогда врачи будут сами стремиться работать у вас, а за ними придут пациенты. Никакие агрегаторы в такой ситуации не будут страшны.
Тут главный вопрос: строит ли клиника бизнес на долгосрочную перспективу или просто пытается заработать здесь и сейчас...
— На мой взгляд, краткосрочные стратегии в медицине не работают, или это уже не медицина, а оказание медицинских услуг, зачастую среднего качества и часто бессмысленных с точки зрения лечения. В таком случае чем быстрее агрегаторы «унизят» и уничтожат таких игроков, тем лучше для пациентов. Чище будет воздух на рынке.
Сейчас много говорят о том, что искусственный интеллект в медицине приведет к прорыву. Но на прошедшем в июне XVIII Петербургском медицинском форуме мы с трудом нашли пару-тройку докладов о реальном применении ИИ в клинике. С чем, на ваш взгляд, это связано?
— Проблема ИИ носит системный характер из-за незрелости процессов и неготовности к их трансформации. Метафорически можно сказать: новое вино не наливают в старые меха. Чтобы получить эффект от ИИ-разработок, нужно понимать, куда именно их внедрять в существующие или создаваемые новые бизнес-процессы и с какой целью. Пока мы только в начале пути. Но маркетинговые обещания создают чрезмерные ожидания и пытаются раскачать рынок. И наступает разочарование. Вопрос в том, достигли ли мы пика завышенных ожиданий и теперь начинаем спад или еще движемся к нему. Спад неизбежен, а затем постепенно начнется реальное применение технологий. Процесс неоднороден, поэтому уже есть примеры именно такого развития событий.
Всё чаще звучат предложения собирать большие массивы данных о здоровье, чтобы искусственный интеллект анализировал их и выдавал аналитику и прогнозы. Насколько это реальные планы?
— Представьте, что все врачи мира собрались в консилиум, получили полную информацию о вас и совместно ставят диагноз, после чего вместе назначают лечение. В медицине существует понимание конкуренции научных школ: то, что вчера считалось правильным, сегодня может быть признано ошибочным и наоборот. Часто у врача нет возможности принимать однозначные решения. Более того, окончательное решение всегда остается за пациентом. Индивидуальное добровольное согласие подразумевает, что пациенту необходимо объяснить всё, касающееся его лечения, причем простым языком. Далее часто приходится делать сложный клинический и этический выбор, поскольку приходится выбирать из вариантов вроде «плохо, но точно сработает», «может быть, не так плохо, но…», «давайте попробуем, вдруг поможет…» и так далее.
Если автомеханик знает, как устроена машина и почему она работает или не работает, то у человека нет таких чертежей и схем. В этом проблема. Все эти массивы данных и цифровые снимки — это лишь приблизительные описания структуры и функций вашего организма. Нет идеального эталона, под который можно подгонять ваш организм «лечением». Попытки такого подхода часто приводят к развитию ипохондрического невроза и усилению психосоматических проблем. Человек не машина. Каждый организм уникален, а болезни у всех протекают по-разному.
То есть объем так называемой объективной информации не поможет в сохранении здоровья или лечении?
— Собирать огромные массивы данных реально, но их интерпретация — задача далеко не простая. Важно учитывать, что часть этих данных будет изначально зашумлена, а часть — бессмысленна для диагностики. Кроме того, эти данные необходимо рассматривать в комплексе с другими еще не собранными данными, о которых никто даже не догадывается, что они нужны. Вот это и станет главным препятствием для светлой идеалистической идеи вроде «мы сделаем вам МРТ всего тела, возьмем анализы, назначим персональные препараты, и вы проживете здоровым еще 200 лет». Медицина не всегда знает, как собираемые данные взаимосвязаны и что из них следует. Повторюсь, врачу не нужен анализ всего подряд. Он ориентируется на определенные знаки и сопутствующие симптомы, сопоставляя их с медицинскими знаниями и собственным опытом. Это совсем другой алгоритм, нежели многофакторный анализ огромного массива данных, часто нечетких и без понимания их точных взаимосвязей.
Опыт показывает, что большинство россиян не готовы лечиться онлайн. Что мешает развитию телемедицины?
— Два главных фактора. Первый — врачи морально не готовы, да и им зачастую это запрещают. Когда обсуждался закон о телемедицине, а затем вводились экспериментальные правовые режимы, звучали предложения предоставить врачу право самостоятельно решать, достаточно ли ему удаленной информации для принятия решений по диагностике и лечению или необходим очный прием. К сожалению, это предложение до сих пор не прошло, хотя лично я не вижу разумных аргументов против, кроме, пожалуй, того, что не всех врачей можно допускать к такому формату оказания медицинской помощи.
Сейчас же происходит ровно наоборот: удаленные консультации чаще всего оказывают врачи с низкой квалификацией и по более низкой цене, чем очный прием, хотя по времени и усилиям со стороны врача всё должно быть наоборот.
Вторая причина — часто пациент не готов морально. Приходя в медицинскую организацию, он выполняет определенный ритуал, который в телемедицине выражен гораздо менее явно. Это отдельный и очень интересный психологический аспект, который описывали еще древние и который мы сейчас изучаем. Поход к врачу в некоторой степени является ритуальным действием (примерно на 30–50%, точно не менее), а уже затем рациональным.
Для многих пациентов стационар — это не просто вынужденное место, из которого хочется как можно скорее уйти (а лучше вообще туда не попадать), а своего рода мастерская для решения всех медицинских проблем. А телемедицина предполагает, что ответственность лежит на пациенте. Врач лишь дает рекомендации, а дальше пациенту решать, что и как делать и отвечать за выполнение рекомендаций. То есть пациент сам становится управляющим своего «амбулаторного законченного случая».
Большинство к этому не готово, поэтому очный поход к врачу часто воспринимается как перекладывание на врача ответственности за контроль заболевания и лечения. Вот здесь и кроется главный барьер телемедицины. Она столкнулась с фундаментальной проблемой здравоохранения, которая обсуждается много лет: вы лечитесь сами или вас лечат? Чем больше пациенты будут понимать, что их собственное здоровье находится только в их руках, а врач — консультант и помощник, а не волшебник, тем больше будет места для телемедицинских технологий.
Появление чат-бота GPT многими воспринимается как замена врача на приеме. Бот уже сдал госэкзамены в медицинском институте лучше большинства студентов. А учитывая нехватку врачей и то, что их начинают заменять фельдшерами, возможно, профессия врача действительно становится вымирающей. Останутся лишь хирурги и стоматологи?
— Меня часто спрашивают заменит ли искусственный интеллект врача. Причем спрашивают когда или что для этого нужно. Всегда хочется ответить: разберитесь сначала в понятиях. Интеллект — это не просто набор знаний и тем более не библиотека неструктурированной информации. Сопоставляя слова и выражения, как машина, можно сдать экзамен, особенно тесты, но полноценно решить клиническую ситуацию, особенно если она запутанная и, главное, противоречивая, не получится. Врач часто сталкивается с ситуациями, когда нет единственно правильного решения. Более того, необходимо наблюдать за пациентом в динамике, проводить дифференциальную диагностику, то есть шаг за шагом исключать ошибочные версии и так далее. Так что спрос на настоящих врачей в даже эпоху ИИ останется.
Но возникает философский вопрос: откуда они возьмутся при сокращении базы для их отбора и условий для их профессионального роста?
— Здесь, думаю, нужно разделять теорию и реальность. Но если реальность, извините, кривая, это вряд ли означает, что нужно смириться и заменить плохих врачей хорошим ИИ. Думаю, хороший ИИ нужно адаптировать так, чтобы он помогал врачам становиться лучше и сильнее, а плохих вытеснял из профессии. Это не та сфера, где есть место глупости и невежеству. Но, увы, это снова не про ИИ…
Кстати, стоматологов заменить будет проще всего, сразу после терапевтов. Сегодня уже существуют стоматологические установки, которые подсказывают стоматологу и ведут его. В теории мы в шаге от полной автоматизации. Но в такой же теории мы уже почти 50 лет, если не больше, изучаем термоядерную реакцию и мозг человека… И что? Мы практически так же далеки от истины, как и тогда. Сделаны большие шаги, но сложно пройти последние 20% пути, а первые 80% мы еще даже не завершили.
С хирургами ситуация чуть сложнее, но в принципе теоретически и технологически и это возможно. А вот психиатрам работы только прибавится. В целом идея создать ИИ-советчика, который будет давать рекомендации по лечению на основе проверенных медицинских знаний, выглядит разумной. Можно ли такого советчика допустить к пациенту напрямую и как понять, в какой момент должен подключиться врач — это вопросы, на которые предстоит найти ответы. Скорее всего, такой советчик будет однозначно лучше, чем невежественный врач или самостоятельный поиск информации в чатах.
Есть такая шутка: терапевт — это врач, который всё знает, но ничего не умеет, хирург — тот, кто всё умеет, но ничего не знает, а патологоанатом — знает всё, умеет всё, но всегда опаздывает. Так кого из них будем менять на ИИ первым?
Цифровые технологии и информатизация меняют формат клиник и медицинского обслуживания. Какие самые значимые изменения произошли благодаря цифровизации?
— Медицина в плане освоения технологий не является отстающей отраслью, скорее наоборот. Просто это не всегда заметно невооруженным глазом. Что реально интересно? В области поиска новых лекарств произошел реальный прорыв: появилась возможность математического моделирования. Распознавание медицинских изображений действительно применяется на практике, как и роботизированная хирургия. Есть отдельные достижения в диагностике — подсказки врачам, помощь в сопоставлении различных данных и фактов.
Так что не стоит судить о технологиях по доступности электронной записи к врачу, хотя в вопросе обслуживания это достижение, так же как электронные рецепты, возможность поговорить с врачом удаленно и удаленный мониторинг хронических заболеваний. Но для пациентов все достижения еще впереди. Для этого придется изменить процессы «обслуживания», а лучше — пересмотреть организацию лечения и обеспечение пресловутых «качества и доступности медицинской помощи».
Андрей Алмазов — научный сотрудник Лаборатории инновационных технологий и искусственного интеллекта Национального НИИ общественного здоровья им. Семашко. Преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Высшей школы экономики. Директор по проектной деятельности Ассоциации «Национальная база медицинских знаний».